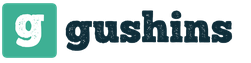Написал эту новеллу в рамках цикла «Философские этюды» в 1832 году.
В ней он демонстрирует себя в качестве знатока искусства, но главное - предсказателем развития европейского искусства конца XIX века и всего двадцатого столетия.
Обратим особенное внимание на первое предложение новеллы: «В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперёд мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже». С первых четырёх строк читатель верит Бальзаку в реальности описываемой истории - этому способствуют точная дата, время и адрес, а далее по тексту - другие скрупулёзные описания автора.
Ничто не наводит на мысль об абсолютной фиктивности до того момента, как мы узнаём, что юноша есть не кто иной, как Никола Пуссен - французский художник, известный своими картинами «Похищение сабинянок», «Смерть Германика», «Аркадские пастухи» и др., использованием античных мифологических тем для раскрытия современной ему эпохи. О его теоретических убеждениях практически ничего неизвестно.
Франсуа Порбус - второй герой новеллы, действительно существовавший художник из Нидерландов, посвятивший себя портретному жанру. Он вступает в полемику со своим учителем Френхофером, единственно вымышленной персоной, которая представляет для нас наибольший интерес. Старика Френхофера можно сопоставить с самим Бальзаком: он тщательно работает над своими произведениями, постоянно что-то меняя в них, для него важна каждая мелочь, которая помогает вскрыть сущность явления.
Чего же здесь недостаёт? Пустяка, но этот пустяк - всё
Он словно родился не в своей эпохе, его окружают непонимание и крайне революционные размышления об искусстве для XVII века. В первую очередь, Френхофер выступает против слепого подражания природе и учителям, против не вдумчивого следования внешним чертам, но ратует за выражение сущности объекта изображения. Такая позиция полностью опровергает правящую во Франции концепцию классицизма - подражания античным мастерам, строящегося на строгом соблюдении канонов.
Вы воспроизводите,само того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаёте форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех её поворотах и отступлениях
В этом же монологе Френховер защищает интуитивный принцип искусства - работу при наличии вдохновения и художественной задумки. Он также говорит о безрассудной природе творчества: оно строится не на рациональном начале, а переживаемых чувствах и эмоциях. Сегодня такой подход к работе художника кажется вполне обыкновенным, в порядке вещей.
Красота строга и своенравна, она не даётся так просто, нужно поджидать благоприятный час,выслеживать её и, схватив, держать крепко, чтобы принудить её к сдаче […] Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму
Вообще, Френхофер в своих размышлениях и работах предсказывает развитие искусства конца XIX - середины XX веков. Обратив внимание на Пуссена, он просит его сделать рисунок красным карандашом и отмечает, что картина не закончена - сам берёт палитру и начинает яростно исправлять работу юноши, что «пот выступил на его голом черепе». Прочитайте цитату ниже - ничего не напоминает? Да, правильно - импрессионизм . Он появился во Франции, условно говоря, как противостояние классицизму; его приверженцы разрабатывали те методы и техники, которые позволяют художнику максимально точно передать реальный мир в его подвижности, передать его изменения. Это как раз то, о чём настаивает в спорах с Порбусом Френхофер.
Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне «O filii». […] Чудак тем временем исправлял разные части картины:сюда наносил два мазка, туда - один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом
Уже в XX веке художник Поль Сезанн увидел в словах Френхофера себя, когда его друг нео-импрессионист Эмиль Бернар зачитал ему пару абзацев «Неведомого шедевра». Искусствовед Максим Кантор так описывает технику Сезанна: «Всякий мазок Сезанна это синтез цвета и света, синтез пространства и объекта – оказывается, Бальзак этот синтез предвидел. Пространство – это Юг, Италия, голубой воздух, перспектива, придуманная Паоло Уччелло . Объект – это Север, Германия, въедливый рисунок Дюрера, пронзительная линия, ученый анализ. Север и Юг распадались политически, религиозные войны распад закрепили: Юг католический, Север протестантский. Это две разные эстетики и два несхожих стиля рассуждения. Слить Юг и Север воедино – была мечта всякого политика, со времен Карла Великого, и вековая политическая драма Европы состоит в том, что распадающееся на части наследство каролингов пытались собрать воедино, а упрямое наследство рассыпалось, не слушалось политической воли; Оттон , Генрих Птицелов , Карл Пятый Габсбург , Наполеон, проект Соединенных штатов Европы де Голля – это все затевалось ради великого плана объединения, ради синтеза пространства и объекта, Юга и Севера».
Следующий шаг - предвосхищение манеры выполнения скульптур «Мыслитель», «Поцелуй» и др., выполненных Огюстом Роденом - одним из основателей современной скульптуры, прославившегося своей виртуозностью в изображении человеческого тела, эмоционального состояния и движения. Огюст Роден, сильно интересующийся творчеством Бальзака, в своих работах пользуется тем же принципом, что и персонаж Френхофер - взаимодействие со световой средой образа наравне с собственной пластикой скульптурного образа.
Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень - только случайность, запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени, вплоть до чёрных, до самых глубоких; ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на неё падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещённых, - это дерево, бронза, всё что угодно, только не затенённое тело.
Последние пророчества мы встречаем уже в самом конце новеллы. Франсуа Порбус и юный Никола Пуссен приходят в мастерскую учителя, чтобы взглянуть на «Прекрасную Нуазезу», которую так нахваливал Френхофер (кстати, она названа по аналогии с «Прекрасной Ферроньерой» Леонардо да Винчи). Они в полном предвкушении увидеть шедевр мастера, над которым он работал с десяток лет, но… ничего не видят. Лишь подойдя ближе, они замечают «в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределённых оттенков, образующих некую бесформенную туманность». Порбус и Пуссен не могут молчать и говорят Френхоферу, что на картине нет той единственной и прекрасной Нуазезы, - тот в гневе прогоняет учеников и на следующий день умирает.
Тут вот, - продолжал Парбус, дотронувшись до картины, - кончается наше искусство на земле. - И, исходя отсюда, теряется на небесах, - сказал Пуссен
По Бальзаку беспредметное искусство, коим является абстракционизм, выдвигающее на первый план исключительно формальный принцип и отказывающееся от действительности и подражания природе всегда чревато опасностью утраты самой природы. Писатель как бы предостерегает нас от опасности самоистощения.
Несмотря на свою пророческую составляющую на двадцатое столетие, новелла «Неведомый шедевр» будет всегда актуальна прежде всего своим вневременным компонентом: Бальзак сталкивает в одном месте и времени реальных художников и вымышленного персонажа, которые обсуждают как правильнее «делать искусство», а это вопрос, которому ответа нет.
В 1832 г. Бальзак пишет небольшую повесть "Неведомый шедевр", которую впоследствии, при оформлении замысла "Человеческой комедии", объединит с "Шагреневой кожей" в одном цикле "Философские этюды". Я хочу обратить ваше внимание на эту повесть, потому что в ней Бальзак высказывает весьма любопытные суждения о принципах искусства вообще и изобразительного искусства в частности. Спор в этой повести ведется вокруг проблемы отражения действительности в искусстве. Герой ее, гениальный художник, старик Френхофер выступает против слепого подражания природе. Принцип подражания Френхофер видит в следовании "внешним чертам" - и он отвергает его, противопоставляя ему принцип "выражения сущности": “Наша цель в том, чтобы улавливать смысл, сущность вещей и людей".
Нетрудно увидеть, что, хотя действие повести формально происходит в XVII в, здесь затрагиваются проблемы весьма актуальные для состояния искусства того времени, когда Бальзак создавал свою повесть, и к тому же проблемы, касающиеся искусства самого Бальзака. Френхофер обрушивается на принцип описания внешних черт, мелочей, но мы уже знаем, что для творческого принципа Бальзака все эти мелочи, именно эти как будто бы случайные внешние черты имели принципиально важное значение. Френхофер отметает мелочи как случайности - для самого Бальзака, как раз в этот момент вплотную подходящего к гигантскому замыслу “Человеческой комедии”, категория случайности как будто утрачивает свой смысл - для него каждая мелочь ценна именно тем, что помогает глубже вскрыть сущность явления. Осознав это, мы поймем, что подлинным скрытым собеседником и идейным противником Френхофера в повести является сам Бальзак. Правда, оба они - и вымышленный герой, и его реальный творец - писатель Бальзак - стремятся в конечном счете к одной и той же цели: когда Френхофер требует “давать полноту жизни, переливающуюся через край”, - это, несомненно, говорит и сам Бальзак. Но у них разные взгляды на средства достижения и выражения этой полноты.
Принцип Френхофера - изображать не случайные черты, а сущность - казалось бы, невозможно опровергнуть. Это ведь сама суть всякого подлинного искусства, в том числе и реалистического. Но ранний реалист Бальзак настаивает на праве художника изображать "подробности". И потому он заставляет своего героя-оппонента от этой исходной точки прийти к творческому крушению. Проследим, как это происходит.
Френхофер - убежденный проповедник и защитник интуитивного принципа творчества, он - апостол искусства принципиально субъективного и иррационального, не признающего прав рассудка. Френхофер, - это, конечно же, тип романтика, это они защищали безрассудную природу искусства, это они видели "целые эпопеи, волшебные замки" там, где скучали "холодные разумом мещане". И между прочим, это они упрекали Бальзака за приземленное, за внимание к “внешним чертам, мелочам, случайным проявлениям жизни”. Оказывается, в этом “философском этюде”, намеренно перенесенном в XVII в., намеренно сталкивающем реальное историческое лицо - Пуссена - с лицом вымышленным (чем создается эффект "вневременности" и "всеобщности"), оказывается, за этим скрывается вполне актуальная и личная эстетичная полемика!
Бальзак далек от того, чтобы категорически и безоговорочно отвергать интуитивный принцип искусства, защищаемый его антагонистом в повести. Однако он, пытаясь разобраться в логике такого принципа, в том, куда он ведет в конечном счете, обнаруживает на этом пути не только возможность новых побед искусства, но и очень серьезные опасности.
Излагая и развивая более конкретно свои творческие принципы, бальзаковский Френхофер высказывает взгляды, безусловно, непривычные не только для XVII в., но даже и для первой трети XVIII в. Однако нам с вами эти взгляды уже могут показаться знакомыми. Вот Френхофер говорит об изобразительных искусствах, о живописи и скульптуре: “Человеческое тело не ограничено линиями. В этом смысле скульптуры могут ближе подойти к правде, чем мы, художники. Строго говоря, рисунка не существует... Линия есть лишь средство, благодаря которому человек воспринимает отражение света на предмет, но линий не существует в природе, в которой все имеет объем; рисовать - значит лепить, т. е. отделять предмет от среды, в которой он находится".
Это же тот самый принцип, которым в конце XIX в. руководствовался в своем творчестве Роден, когда ставил себе цель вовлечь окружающую световую атмосферу в свои скульптурные образы; для Родена именно "отражение света на предмет" - один из очень существенных компонентов внутренней формы предмета; Роден, другими словами, учитывал не только собственную пластику скульптурного образа, но и взаимодействие его со световой средой. Бальзак здесь явно предвосхищает гораздо более поздние формы изобразительного искусства. Не случайно, видимо, фигура Бальзака так интересовала Родена, и он поставил ему замечательный памятник, на цоколе которого надпись: "Бальзаку - от Родена ".
Но это еще не все. Френхофер продолжает развивать свои мысли дальше. Далее следует фантастически точное описание принципов и техники тех французских художников последней трети XIX в., которые стали известными под именем импрессионистов. Описание это настолько точно, что прямо-таки есть соблазн предположить, что и Моне, и Ренуар, и Писарро, и Синьяк просто "вышли из Бальзака". Но это уже дело истории искусства. Мы с вами можем лишь отметить, что и здесь Бальзак обнаруживает гениальную прозорливость; во всяком случае, неудивительно, что техника живописного импрессионизма впервые оформилась не где-нибудь, а во Франции, если она уже в 1832 г. была описана французскими писателями.
Однако и это еще не все. Пока это все были теоретические рассуждения Френхофера, и можно лишь было предположить, что, следуя им, художник может создать такие замечательные скульптуры и полотна, которыми позже и оказались скульптуры Родена и картины импрессионистов.
Но сюжет бальзаковской повести построен так, что собственных творений столь гениального художника мы до самого конца повести не видим, хотя писатель все более и более обостряет наш интерес к ним. Можно сказать, что сюжет этот построен на тайне - нам сообщается, что Френхофер - это гениальный художник, который может позволить себе даже Рубенса пренебрежительно назвать "горою фламандского мяса", - этот человек, для которого почти нет никаких авторитетов в прошлом н настоящем, работает вот уже долгие годы над главной своей картиной, шедевром своей жизни, портретом прекрасной женщины, в котором воплотится все земное и небесная красота, который станет вершиной, пределом живописного искусства. Естественно, что мы вместе с Пуссеном все с большим нетерпением ждем знакомства с этим шедевром.
И вот наконец нас вместе с Пуссеном и его другом художником Порбусом допускают в святая святых. Перед нами отбрасывают покрывало. Следует такая сцена: Пуссен в растерянности, он еще не осознал, что происходит. Он говорит: "Я вижу только беспорядочное нагромождение красок, пересеченное целой сетью странных линий, - оно образует сплошную расписанную поверхность".
Порбус первым приходит в себя. "Под всем этим скрыта женщина", - воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои краски, которые старик накладывал один на другой, думая, что улучшает свое произведение. И вот, когда, избавившись от наваждения, Пуссен отваживается сказать Френхоферу в лицо жестокую, но неопровержимую истину: "Здесь ничего нет!" - Френхофер исступленно кричит: "Ты ничего не видишь, мужлан, невежда, олух, ничтожество! Зачем ты только явился сюда?" - И "плача" продолжает: "Я вижу ее! - крикнул он - Она божественно прекрасна!"
Как напоминает эта сцена споры XX в., споры перед картинами "с беспорядочным нагромождением красок, с сетью странных линий, со сплошной расписанной поверхностью"? Там ведь тоже часто одни говорили, что ничего не видят, а другие говорили им, что они невежды и олухи. И там тоже художники неопровержимо стояли на своем - а я ее вижу, и она прекрасна!
Бальзак и здесь оказался провидцем, он предвосхитил и трагедию абстрактного беспредметного искусства (в той, конечно, его части, где оно было истинной попыткой поиска, а не шарлатанством, - там, где художник действительно был убежден, что он видит в этом красоту).
А теперь мы должны осознать, что эти бальзаковские прозрения не только не случайны, но и явно друг с другом связаны, и связь эта - причинно-следственная: одно порождается другим, выходит из другого, и поразительнее всего то, что логика френхоферовских принципов предстает перед нами в сюжете повести в той же последовательности, в которой позднее они повторились в реальной истории искусства. Бальзак, повторяю, уловил какие-то очень существенные тенденции в логике субъективного искусства - он как бы предначертал путь от романтизма через импрессионизм к абстракционизму. Внутреннюю логику Бальзак явно увидел здесь в том, что принцип субъективного самовыражения, лежащий в основе романтического искусства, неизбежно тяготеет и к принципу чисто формальному. Романтики сами еще стремились к выражению природы, т. е. не к одной форме. Но уход от действительности, от подражания природе - если строго и неуклонно следовать этому принципу - всегда чреват, по мнению Бальзака, опасностью утраты самой природы, т. е. содержания в искусстве, и выдвижения на первый план чисто формального принципа. И тогда художник в один прекрасный день может очутиться в такой точке, что в погоне за наиболее точной формой для выражения своего субъективного взгляда на природу его сознание всецело подчинится только форме, и там, где он сам будет видеть прекрасную женщину, все другие будут видеть лишь "беспорядочное нагромождение красок". И вот Френхофер умирает, сжигая все свое ателье. А Порбус, глядя на его неведомый шедевр, подводит печальный итог: "Здесь перед нами - предел человеческого искусства на земле".
Полувеком позже Эмиль Золя запечатлеет точно такой же процесс в своем романе “Творчество”. Главный герой этого романа - тоже художник, и он тоже будет изнурять и сжигать себя в тщетной попытке создать совершенный портрет прекрасной женщины. Он тоже будет все больше и больше запутываться в сетях формального принципа и тоже дойдет до предела, за которым начинается безумие. Но Золя уже будет опираться на реальный опыт искусства - прототипом его героя будет Клод Моне, т. е. наиболее последовательный и совершенный представитель импрессионизма в живописи. А вот Бальзак предвосхитил такую логику и модель художественного мышления задолго до Моне, Золя и тем более абстрактного искусства.
Конечно, для Бальзака Френхофер был только утопией, фантазией, игрой ума. Ничего подобного в истории искусства до Бальзака и во времена Бальзака, разумеется, не было. Но сколь глубоко надо было понять сущность искусства вообще и логику романтического искусства в частности, чтобы нарисовать почти зримые картины того, что должно было произойти чуть ли не веком позже! А вот недавно одна американская последовательница в своей книге о взаимодействии литературы и музыки показала, что в своем философском этюде "Гамбара" Бальзак точно так же предвосхитил музыку Вагнера с ее диссонансами и атональную музыку Шенберга. И эту логику, повторяю, Бальзак видит именно в том, что романтики слишком односторонне полагаются только на интуитивную, иррациональную сторону искусства, принципиально пренебрегая и разумом и реальной жизнью. Тогда рано или поздно им грозит опасность запутаться в сетях чисто формального поиска, и эта 6opьбa будет бесплодной и заведет искусство в тупик, в ничто.
Порбус говорит о Френхофере: "Он предавался долгим и глубоким размышлениям о красках, о совершенной верности линий, но он столько искал, что наконец стал сомневаться в самой цели своих поисков". Это - очень точная и емкая формула! Бальзак предостерегает здесь от опасности формального самоистощения, грозящей субъективному искусству.
Рассудок и чувство вторичны, они не должны спорить с кистью, говорит Бальзак, не должны предварять работу кисти, не должны, так сказать, ни на что настраивать ее заведомо, т. е. сбивать ее с толку. Для тебя важен только предмет, который ты наблюдаешь, и кисть, которой ты работаешь. Рефлексия не должна предшествовать акту творчества, она может в лучшем случае сопровождать его (если думать. то только с кистью в руке). Можно, безусловно, с точки зрения психологии искусства найти и серьезные возражения против такого принципа как другой крайности. Но нам сейчас важно отметить, что это - конечно, хоть и подчеркнуто, полемически заостренная программа искусства реалистического, объективного, полагающегося только на наблюдение и труд.
12. Эстетические воззрения Бальзака в новелле « Неведомый шедевр».
Оноре Бальзак - сын нотариуса, разбогатевшего во время наполеоновских войн. Его романы стали как бы эталоном реализма первой половины 19 века. Писатель буржуазии, хозяина новой жизни. Он потому и отвернулся от утверждения В. Гюго, что "действительность в искусстве не есть действительность в жизни", и видел задачу своего великого произведения в показе не «воображаемых фактов», а в показе того, что «происходит всюду». "Повсюду" сейчас - торжество капитализма, самоутверждение буржуазного общества. Показ утвердившегося буржуазного общества - такова основная задача, поставленная историей перед лит-рой - и Б. ее разрешает в своих романах.
В « Письмах о литературе, театре и искусстве» Бальзак утверждает, что писатель даёт не частные наблюдения, но, обобщая единичное и осмысливая его суть, создаёт типы, основные черты каждого из которых читатель может обнаружить в окружающем его мире. Субъективность романтика уступает место аналитизму и научному подходу к творческому процессу реалиста. В Германии Гегель в своих « Лекциях по эстетике» отмечал типизацию. Как новое в искусстве, ибо поэт должен не «творить в беспамятстве» как это делали романтики, но отбирая из жизни самое характерное и осмысливая его. Бальзак явно не слушавших лекций Гегеля, шел по тому же пути, ибо само развитие искусства диктовало новый подход.
В статье 1840 года « Этюд о Бейле» Бальзак назвал свой метод «литературным эклектицизмом», видя в нём соединение у «двусторонних умов» лиризма, драматизма и одической возвышенности. « Идея, ставшая образом, - это искусство более высокое», - писал он там же, утверждая необходимость соединения рационализма Просвещения с вдохновением романтизма, стремившегося показать жизнь души человека. Вместе с тем, Б утверждал, что роман должен быть «лучшим миром».
Бальзаковские принципы изображения действительности воплотились и в рассказе « Неведомы шедевр», вошедший в цикл философских этюдов «Человеческой комедии». « Неведомый шедевр» посвящён соотношению правды жизни и правды искусства. Особенно важны позиции художников Порбуса (фламандский художник, 1570-1620, работавший в Париже) и Френхофера - личности, вымышленной автором. Столкновение их позиций раскрывает отношение Бальзака к творчеству. Френхофер утверждает: « Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы её выражать…. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копию с женщины…Нам должно схватывать душу, смысл, движение и жизнь». Сам Френхофер задаётся невыполнимой и противоречащей подлинному искусству целью: он хочет на полотне с помощью красок создать живую женщину. Ему даже кажется, что она ему улыбается, что она - его Прекрасная Нуазеза - дышит, весь её облик, физический и духовный превосходит облик реального человека. Однако это идеальное и идеально выполненное существо видит только сам Френхофер, а его ученики, в том числе и Порбус, в углу картины разглядели «кончик голой ноги, выделяющийся из хаоса красок, тонов, неопределённых оттенков, образующих некую бесформенную туманность». Увлечённость, с одной стороны, формой, а с другой - содержанием, желанием поставить искусство выше действительности и подменить им реальность привела гениального художника к катастрофе. Сам Бальзак, не принимая ни субъективности, ни копирования, убеждён, что оно должно выражать природу, схватывать её душу и смысл.
Таким образом, рассказ « Неведомый Шедевр» - не только манифест реалиста, но и горькая ирония, рождённая мыслью о том, что сам великий мастер может оказаться в плену собственных иллюзий, собственной субъективности.
Страница 3
Философские этюды. «Неведомый шедевр» (1830) посвящен соотношению правды жизни и правды искусства. Особенно важны позиции художников Порбуса (Франсуа Порбус Младший (1570-1620) - фламандский художник, работавший в Париже) и Френхофера - личности, вымышленной автором. Столкновение их позиций раскрывает отношение Бальзака к творчеству. Френхофер утверждает: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копию с женщины. Нам должно схватывать душу, смысл, движение и жизнь». Сам Френхофер задается невыполнимой и противоречащей подлинному искусству целью: он хочет на полотне с помощью красок создать живую женщину. Ему даже кажется, что она ему улыбается, что она - его Прекрасная Нуазеза - дышит, весь ее облик, физический и духовный, превосходит облик реального человека. Однако это идеальное и идеально выполненное существо видит только сам Френхофер, а его ученики, в том числе и Порбус, в углу картины разглядели «кончик голой ноги, выделявшейся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность - кончик прелестной ноги, живой ноги». Увлеченность, с одной стороны, формой, а с другой - желанием поставить искусство выше действительности и подменить им реальность привела гениального художника к катастрофе. Сам Бальзак, не принимая ни субъективности, ни копирования в искусстве, убежден, что оно должно выражать природу, схватывать ее душу и смысл.
Философскую повесть «Шагреневая кожа» (1831) автор назвал «формулой нашего теперешнего века, нашей жизни, нашего эгоизма», он писал, что все в ней - «миф и символ». Само французское слово le chagrin может быть переведено как «шагрень» (шагреневая кожа), но оно имеет омоним, едва ли неизвестный Бальзаку: le chagrin - «печаль, горе». И это немаловажно: фантастическая, всемогущая шагреневая кожа, дав герою, избавление от бедности, на самом деле явилась причиной еще большего горя. Она уничтожила способность к творческим дерзаниям, желание наслаждаться жизнью, чувство сострадания, объединяющее человека с себе подобными, уничтожила, в конечном счете, духовность того, кто обладает ею. Именно поэтому Бальзак заставил разбогатевшего банкира Тайфера, совершив убийство, одним из первых приветствовать Рафаэля де Валантена словами: «Вы наш. Слова: «Французы равны перед законом» - отныне для него ложь, с которой начинается хартия. Не он будет подчиняться законам, а законы - ему». В этих словах действительно заключена «формула» жизни Франции XIX в. Изображая перерождение Рафаэля де Валантена после получения миллионов, Бальзак, используя условность, допустимую в философском жанре, создает почти фантастическую картину существования человека, ставшего слугой своего богатства, превратившегося в автомат. Сочетание философской фантастики и изображения действительности в формах самой жизни составляет художественную специфику повести. Связывая жизнь своего героя с фантастической шагреневой кожей, Бальзак, например, с медицинской точностью описывает физические страдания Рафаэля, больного туберкулезом. В «Шагреневой коже» Бальзак представляет фантастический случай как квинтэссенцию закономерностей своего времени и обнаруживает с его помощью основной социальный двигатель общества - денежный интерес, разрушающий личность. Этой цели служит и антитеза двух женских образов - Полины, которая была воплощением чувства доброты, бескорыстной любви, и Феодоры, в образе этой героини подчеркнуты присущие обществу бездушие, самолюбование, честолюбие, суетность и мертвящая скука, создаваемые миром денег, которые могут дать все, кроме жизни и любящего человеческого сердца. Одной из важных фигур повести является антиквар, открывающий Рафаэлю «тайну человеческой жизни». По его словам, а в них отражены суждения Бальзака, которые получат непосредственное воплощение в его романах, человеческая жизнь может быть определена глаголами «желать», «мочь» и «знать». «Желать - сжигает нас, - говорит он, - а мочь - разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии». В состоянии «желать» находятся все молодые честолюбцы, ученые и поэты - Растиньяк, Шардон, Сешар, Валантен; состояния «мочь» достигают лишь те, кто обладает сильной волей и умеет приспосабливаться к обществу, где все продается и все покупается. Лишь один Растиньяк сам становится министром, пэром, женится на наследнице миллионов. Шардону временно удается достичь желаемого с помощью беглого каторжника Вотрена, Рафаэль де Валантен получает губительную, но всемогущую шагреневую кожу, которая действует, как Вотрен: дает возможность приобщиться к благам общества, но за это требует покорности и жизни. В состоянии «знать» находятся те, кто, презирая чужие страдания, сумел приобрести миллионы, - это сам антиквар и ростовщик Гобсек. Они превратились в слуг своих сокровищ, в людей, подобных автоматам: автоматическая повторяемость их мыслей и действий подчеркивается автором. Если же они, как старый барон Нюсинжен, вдруг оказываются одержимы желаниями, не связанными с накоплением денег (увлечение куртизанкой Эстер - роман «Блеск и нищета куртизанок» («Splendeurs et miseres des courtisanes»), то становятся фигурами одновременно зловещими и комическими, ибо выходят из свойственной им социальной роли.
Здесь выложена бесплатная электронная книга Неведомый шедевр автора, которого зовут Бальзак Оноре . В библиотеке АКТИВНО БЕЗ ТВ вы можете скачать бесплатно книгу Неведомый шедевр в форматах RTF, TXT, FB2 и EPUB или же читать онлайн книгу Бальзак Оноре - Неведомый шедевр без регистраци и без СМС.
Размер архива с книгой Неведомый шедевр = 25.28 KB
Рассказы –
Оноре де Бальзак
Неведомый шедевр
I. Жиллетта
В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна та ни была, - юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус.
Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно подыматься, останавливаясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса.
Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердца великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава - ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любовь, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, - страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.
Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, - но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художника. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником.
Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:
- Добрый день, мэтр.
Порбус учтиво поклонился; он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.
Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли.
Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну; свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый, цвета слоновой кости, череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.
- Твоя святая мне нравится, - сказал старик Порбусу, - я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней… черт возьми!
- Вам нравится эта вещь?
- Хе-хе, нравится ли? - пробурчал старик. - И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии., Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую, - и потому только, что время от времени вы смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, вы воображаете, будто вы - художники и будто вы похитили тайну у бога… Бррр!
Для того чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом.
Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение, я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины; недостает пространства и глубины; а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит, ну, а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там - статуя, а дальше - труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.
- Но отчего же, дорогой учитель? - почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками.
- А вот отчего! - сказал старик. - Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул.
В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, - сказал старик, указывая на грудь святой. - И потом еще здесь, - продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. - Но вот тут, - сказал он, снова возвращаясь к середине груди, - тут все неверно… Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние…
Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.
- Учитель, - сказал ему Порбус, - все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне…
- Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт! - живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. - Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну, так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой, - ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления!
Впечатления! Да ведь они - только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз уж я взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела - она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны - одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы ее не видите. Не таким путем удается вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто, нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее и, схватив, держать крепко, чтобы принудить ее к сдаче.
Форма-это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или, в крайнем случае, вторым, третьим; не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, - сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. - Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях та, какой она должна быть и у нас, только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир, - это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указует нам выразительные средства, источник которых - вся прошлая жизнь. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая - брюнетка, но вот эти краски, бедный мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица - только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами, - и это вы называете живописью и искусством!
Только из-за того, что вы сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях-currus venustus или pulcher homo, - как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками!.. Ха-ха…
Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи, придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен, раньше чем стать художниками.
Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом, она так приподнимает юбку, утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так - и не так! Чего же здесь недостает? Пустяка, но этот пустяк-все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел; иначе сказать, вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь. Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается. О Мабузе! воскликнул этот странный человек. - О учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь!.. При всем том, - продолжал старик, - это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок - три существенных части Искусства.
- Но эта святая восхитительна, сударь! - воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. - В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.
- Это ваш юнец? - спросил Порбус старика.
- Увы, учитель, простите меня за дерзость, - ответил новичок, краснея.
- Я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.
- За работу! сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.
Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.
- Ого!.. - воскликнул старик. - Ваше имя? Юноша подписал под рисунком:
«Никола Пуссен», - Недурно для начинающего, - сказал странный, так безумно рассуждавший старик. - Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь - великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбус.
Порбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Порбус подал ему; он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии.
Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы:
- Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы, - как этим писать?
Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне О filii.
Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание.
- Видишь ли, юноша, - говорил старик, не оборачиваясь, - видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере.
Посмотри, как эти складки колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет ветерок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона - красно-коричневый и жженой охры - разлились теплом по этому большому затененному пространству, серому и холодному, где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться? Юноша. юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас! Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика - меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что я намекаю.
Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины: сюда наносил два мазка, туда-один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе; он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, столь соблазнительной для юношеской фантазии.
Старик продолжал свою работу, приговаривая:
- Паф! Паф! Паф! Вот как оно мажется, юноша! Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона. Ну же! Так, так, так! - говорил он, оживляя те части, на которые указывал как на безжизненные, несколькими пятнами красок уничтожая несогласованность в телосложении и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке. - Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько!
Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал им:
- Этой вещи еще далеко до моей «Прекрасной Нуазезы», однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной, - прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. - А теперь пойдемте завтракать, - сказал он. - Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы все-таки что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей, - добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.
Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:
- Я покупаю твой рисунок.
- Возьми, - сказал Порбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. - Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля!
Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, столь милых в обращении.
- Юноша, - сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин, - не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаянье.
Это был «Адам» - картина, написанная Мабузе затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, как бы думая при этом:
«Я получше пишу».
- В ней есть жизнь, - сказал он, - мой бедный учитель здесь превзошел себя, но в глубине картины он не совсем достиг правдивости. Сам человек - вполне живой, он вот-вот встанет и подойдет к нам. Но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет! Да и человек здесь - только человек. Между тем в этом единственном человеке, только что вышедшем из рук бога, должно было бы чувствоваться нечто божественное, а его-то и недостает. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян.
Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса.
Он подошел к последнему, вероятно намереваясь спросить имя хозяина дома; но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, несомненно человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.
Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул:
- Какой прекрасный Джорджоне!
- Нет! - возразил старик. - Перед вами одна из ранних моих вещиц.
- Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! - сказал простодушно Пуссен.
Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.
- Френхофер, учитель мой, - сказал Порбус, - не уступите ли вы мне немного вашего доброго рейнского?
- Две бочки, - ответил старик, - одну в награду за то удовольствие, какое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую - в знак дружбы.
- Ах, если бы не постоянные мои болезни, - продолжал Порбус, - и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу «Прекрасную Нуазезу», я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.
- Показать мою работу?! - воскликнул в сильном волнении старик. - Нет, нет! Я еще должен завершить ее. Вчера под вечер, - сказал старик, - я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались. Она дышала! Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры, но сегодня утром, при свете, я понял свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита, я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень - только случайность, запомни это, мой мальчик, Затем я вернулся, к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени, вплоть до черных, до самых глубоких; ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещенных, - это дерево, бронза, все что угодно, только не затененное тело.
Чувствуется, что, если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями.