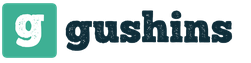Повесть «Котлован» Платонова является одним из самых блестящих, совершенных созданий писателя. Ее замысел относится к осени 1929 г., завершена работа была в апреле 1930 г.
«Котлован» начинается фразой, ставшей за последние годы столь же привычной, как и «В ворота губернского города NN...» или «В каком году — рассчитывай, в какой земле — угадывай...» и многие другие начала, прочно вошедшие в сознание русского читателя. «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Как емок и информативен первый абзац — зачин! В нем не только содержится завязка действия, но и подсказан тип героя, близкого автору, — созерцателя, вдумчивого наблюдателя, похожего на Фому Пухова, Александра Дванова. Здесь задан один из конфликтов повести: живого, страдающего человека, обделенного самым необходимым, и общества, которое требует только темпов труда, но не видит личности. Уже чувствуется и негладкий, «неправильный» язык Платонова. В необычном выражении «в день тридцатилетия личной жизни» два последних слова избыточны, но в них ощущается масштаб повествования — не бытовой, а бытийный.
После изгнания с завода Вощев попадает в другой город, на строительство котлована: «...через год весь местный класс пролетариата выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом». А через 10—20 лет должна возникнуть «в середине мира башня, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли»; в этих строках сквозь толщу конкретно-социального прорывается мифологическая стихия.
На стройке трудится артель землекопов — около двадцати человек, молчаливых, изможденных и «худых, как умершие». Их вымученный энтузиазм граничит с крайней усталостью, апатией; «смирившись общим утомлением», артель засыпает, как живет, в одежде, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства. Едят мастеровые «в тишине, не глядя друг на друга», автоматически, «не признавая за пищей цены».
Среди героев — землекопы Чиклин, Сафронов, Козлов, инженер Прушевский, безногий инвалид Жачев. Рытье котлована контролирует Пашкин, председатель окрпрофсовета; он постоянно подгоняет рабочих: «Темп тих!»
В забытом помещении неработающего кафельного завода Чиклин обнаруживает умирающую женщину. Это дочь бывшего владельца завода; перед смертью она завещает своей дочери Насте никому не открывать, что ее мать была «буржуйкой». Чиклин забирает Настю с собой, она становится всеобщей любимицей.
В композиционном отношении повествование делится на две части: городскую, или, точнее, «котлованную», и деревенскую. Сюжетное пространство деревни обнаруживает себя внезапно и зловеще: на стройку приходят два мужика — они забирают гробы, заготовленные крестьянами для себя впрок и спрятанные в овраге, где роют котлован. Вслед за мужиками уходит Вощев, довольный тем, что он «больше не участник безумных обстоятельств».
Артель отряжает для помощи колхозу Сафронова и Козлова, но скоро становится известно, что они убиты. Их заменяют Чиклин и Вощев, позже к ним присоединяются остальные герои. В деревне действует «активист общественных работ по выполнению государственных постановлений», загоняющий бедняков и середняков в колхоз имени Генеральной Линии. С помощью Чиклина и «остаточного батрака» района, медведя-молотобойца, проходит раскулачивание. Тех, кого сочли кулаками, отправляют в «далекую тишину» «посредством сплава на плоту». Активист ждет одобрения и новых указаний. Приходит директива, в которой актив колхоза обвиняется «в забегании в левацкое болото правого оппортунизма», а сам активист объявляется «вредителем партии». Чиклин убивает его.
Рабочие вместе с Настей возвращаются на строительство. Девочка заболевает и умирает. На стройку приходит весь колхоз: «Мужики в пролетариат хотят зачислиться».
Чиклин хоронит Настю в основании котлована.
Название повести и время ее создания у приступающего к чтению вызывают ассоциации с эпохой первых пятилеток. Шло активное строительство (за счет ресурсов, выкачивавшихся из деревни), газеты постоянно помещали фотографии возводимых предприятий, электростанций, жилых домов и котлованов для них. «Строительство» становится ключевым понятием, знаком эпохи, в язык входят выражения «партийное строительство», «фронт социалистического строительства», «строительство личности» и т. д. Тему преобразований в различных областях жизни осваивают в те годы Л. Леонов, В. Катаев, М. Шагинян, А. Макаренко, И. Эренбург. Характерны названия «производственных» романов, посвященных индустриализации: «Доменная печь», «Гидроцентраль», «Время, вперед!». Создание нового мира показано в них как процесс, требующий колоссального напряжения сил, но при этом общая атмосфера остается радостной, творческой, оптимистичной. Платонов видит это время иначе. На последней странице рукописи повести указаны даты: декабрь 29 г.— апрель 30 г. Естественно понимать их как обозначение времени начала и окончания работы, но в то же время эти даты совпадают с границами исторического промежутка, в котором проходит действие повести. В реальной жизни этот период отмечен, с одной стороны, речью И. Сталина «К вопросам аграрной политики в СССР» (декабрь 1929 г.) - о необходимости «сломить кулачество и ликвидировать его как класс»; с другой стороны, циничными статьями вождя в «Правде»: «Головокружение от успехов» (март 1930 г.) и «Ответ товарищам колхозникам» (апрель 1930 г.) — в них насильственные меры по созданию колхозов, борьба с середняком, «скоропалительные темпы» коллективизации названы « головотяпством», «забеганием вперед», «искривлением партийной линии»; ответственность за эти «ошибки» возлагалась на местных руководителей. Социально-политическая ситуация в стране отражается в тексте настолько точно, что он может рассматриваться как исторический документ.
В директиве, полученной активистом из области, откровенно пародируется речь Сталина: «...отмечались явления перегибщины, забеговщины, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии». Таких сцен, где можно обнаружить своеобразный «диалог» Платонова со Сталиным, в повести несколько.
Призыв Пашкина «начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма» и «бросить (туда) что-нибудь особенное из рабочего класса» связан с решениями Пленума ЦК (ноябрь 1929 г.) о мобилизации 25 тысяч пролетариев на постоянную работу в колхозы.
Ребенок, возвращая твердую невкусную конфету, заявляет активисту: «Сам доедай, у ней в середине вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!» Обыгрывая лозунг партии, который вошел в обиходную речь в 1929—1930 гг., Платонов употребляет слово «сплошной» во всевозможных сочетаниях: сплошной народ, сплошная каменистая конфета, сплошная тишина.
Историческая точность повествования состоит не столько в отражении конкретных событий и реалий жизни «года великого перелома», сколько в передаче особенностей мифологизированного, утопического сознания устроителей земного рая. Землекопы убеждены, что социализм — рядом и его приближение зависит только от их упорного труда. Ради ребенка, «будущего радостного предмета», они начинают работу на час раньше, «чтобы «как можно внезапней построить котлован», — совсем как в Чевенгуре, где такие же мечтатели твердо знают: «Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!» Слово таких героев «преданалитично», оно «стенографирует самое первое впечатление человека о мире», ибо мышление «массового человека» интуитивно, ограничено несвязными чувственными восприятиями. Такой тип мышления характерен для персонажа, центрального в группе рабочих, — Никиты Чиклина, напоминающего Чепурного своей способностью к сочувствию, доброго, заботливого к товарищам, Насте, но беспощадного к врагам. «Думать он мог с трудом, и сильно тужил об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться».
Среди мастеровых выделяется «сознательный» социалист, «наиболее активный» - Сафронов, стремящийся соответствовать «благополучной линии» и идеологическим установкам. Он чувствует себя выше «серой массы» и осуждает «людскую некультурную унылость». Его речь — один из каналов, через который в повесть входит изощренно-косноязычная стихия официальных речений, директив. Вот он просит инвалида Жачева: «...доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить». Для такой речи характерно смешение стилей — канцелярского, газетного, просторечного, ненормативное употребление синтаксических моделей, искусственность словаря, неточное понимание значения слов. Сафронов постоянно «делает» свое лицо («активно мыслящее»), голос («вящий», «нравоучительный», «верховный голос могущества»), походку (то «интеллигентную», то «легкую руководящую»). В его поведении все кажется искусственным, механическим, нарочитым. Но и он переживает минуты печали и сомнений; «Если глядеть лишь по низу в сухую мелочь почвы и в травы... то в жизни не было надежды…
— А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?»
То, что М. Горький писал Платонову о своем понимании «Чевенгура» — «вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический», — во многом можно отнести и к «Котловану», к способу изображения персонажей.
В ироническом ключе обрисован самый плохой на котловане работник Козлов. Это приспособленец, он уходит со стройки по болезни, но возвращается уже как общественный деятель — в серой тройке, пополневший, уверенный. Он читает книги, чтобы запомнить «формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюции, строфы песен и прочее» и затем пугать «и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью». Каждое свое выступление перед трудящимися он начинает «некими самодовлеющими словами»: «Ну хорошо, ну прекрасно». Ликвидировав «как чувство» любовь «к одной средней даме», посылает ей «последнюю итоговую открытку: „Где раньше стол был яств, Теперь там гроб стоит“». Среди новых землекопов, прибывших на строительство, уже нет энтузиастов, каждый «придумал себе идею будущего спасения» с котлована. И есть те, которые готовятся повторить путь Козлова, «пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате».
Рытье котлована контролирует Пашкин, председатель окрпрофсовета; он постоянно подгоняет рабочих: «Темп тих!» Для характеристики этого персонажа используются приемы сатиры и гротеска. Пашкин живет «в основательном доме из кирпича», так как озабочен тем, чтобы «невозможно было сгореть»; он укрепляет свое здоровье и «научно хранит свое тело». В этой фигуре зафиксированы черты нового слоя — советской бюрократии, наиболее беспринципного и ловкого. Блестящая сцена разговора Пашкина с женой войдет в коллекцию разоблачительных «супружеских» сцен в русской литературе (вспомните диалоги четы Горичей, Маниловых): «Жена Пашкина умела думать от скуки: „Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и передвинул его на должность... Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение...“ — „Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь“ ».
С инженером Прушевским связана в повести тема интеллигенции и революции. Автор проекта общепролетарского дома и производитель работ, он тем не менее ближе к рабочим, с ним так же не считаются. В отличие от землекопов, он осознаёт свое положение («мною пользуются, но никто не рад»), чувствует себя выброшенным из жизни, постоянно испытывает тоску и думает о смерти. Будущее кажется ему пустым и чуждым.
Чиклин приводит на стройку Настю, дочь умершей буржуйки; девочка становится всеобщей любимицей. Детского, естественного в ней мало; она помнит завет матери — скрывать свое происхождение: «...знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя». Настя уклоняется от ответа на вопрос о родителях и предусмотрительно спешит сообщить: «а я знаю, кто главный... Главный — Сталин, а второй — Буденный». Казалось бы, Настя быстро и легко учится оценивать людей по принятым здесь классовым нормам: «Умирать должны одни буржуи», «Убей их пойди» (о кулаках); становится безжалостной: «Они все равно умерли, зачем им гробы?» Но слушая объяснения о ликвидации целого класса, не может не спросить: «А с кем останетесь?» И быстро утомляется, тоскует от этих разговоров: «Мне у вас стало скучно».
В деревне действует «активист общественных работ по выполнению государственных постановлений», загоняющий бедняков и середняков в колхоз имени Генеральной Линии. Его роль страшна — он вдохновенный исполнитель жестокой воли Центра. У активиста нет имени, это обобщенный образ партийного деятеля, черты его заострены и даны гротескно. Активист не знает сострадания к людям, сильные чувства он испытывает только к казенным бумагам. При непогашенной лампе ночами он ждет, не прискачет ли верховой из района; каждую новую бумагу читает «с любопытством будущего наслаждения», плачет над ней, любуясь подписями и штемпелями, а потом «с жадностью» докладывает об исполнении. При всей искренности переживаний активист не совсем бескорыстен: он «не хотел быть членом общего сиротства», ибо лучше «уже сейчас быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени». Деятельность его сеет семена подозрительности, страха, лицемерия. Лишенный прихода, униженный поп не хочет больше жить, так как «остался без Бога, а Бог без человека». В поминальный листок он заносит теперь тех, кто еще заходит в церковь поставить свечу, а по ночам сообщает эти имена активисту. Даже «горе горевать в остатнюю ночь» крестьяне не смеют без дозволения этого главного человека деревни.
Убийства Сафронова и Козлова открывают цепь смертей, которые происходят легко, как бы «нечаянно», ни у кого не вызывают сожалений. Активист радуется еще одной, «случайной» смерти: «И правильно: в районе мне не поверят, чтоб был один убивец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация». Смерть становится рядовым явлением.
Вокруг активиста царит атмосфера абсурда. Так, он проводит «сквозной допрос» в поисках человека, съевшего петуха (о последнем молчит, так как съел его сам). О мертвеце, оказавшемся рядом с Сафроновым и Козловым, сообщает, что тот «сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер».
С этим безумием резко контрастирует поведение мужиков. Вот как прощаются они друг с другом накануне вступления в колхоз: «Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.
…. - Прощай, Егор, — жили мы люто, а кончаемся по совести. После целования люди поклонились в землю — каждый всем». Перед лицом новой жизни, равной для них смерти, простой человек вспоминает о вечных, христианских законах. Ненависти и вражде противостоит любовно-родственная связь с ближним.
Рабочие вместе с заболевшей Настей возвращаются на оставленное строительство. Перед смертью Настя просит Чиклина принести ей «мертвые кости» матери, целует и обнимает их и вскоре умирает. Смерть девочки с именем Анастасия ("воскресшая"), которая была для строителей живым социалистическим элементом и давала надежду, тепло, энергию жизни труда, становится символом краха новой социальной утопии.
Смысл названия произведения и всей повести по мере прочтения наполняется все более сложным, трагическим содержанием. Котлован, вырытый под фундамент грандиозного здания, становится не началом счастливого царства, а приговором социальному эксперименту, пропастью, в которой похоронены мечты, настоящее и будущее. Рытью ямы нет конца (она будет «еще шире и глубже») — это символ коллективного самоуничтожения, самоистребления. Здесь не только скептическое отношение автора к революционным преобразованиям, но и горькие размышления о превышении человеком своих физических и духовных возможностей. Это метафизическая тоска от «неопределенности места и роли человеку в мироустройстве», от «тщеты усилий обрести гармонию».
«Котлован» — философское произведение, здесь сказалось пристальное внимание писателя к онтологическим вопросам: природе бытия, статуса живого, духовного существа в материальном мире и в мире природы. Общепролетарский дом должен не только вместить угнетенных людей, но и стать убежищем от разрушающего влияния мира, сохранить смысл «общего и отдельного существования». С особой силой эти проблемы раскрываются в картинах природы, в сквозных мотивах умирания и смерти, скуки и сиротства. Решение этих вопросов связано с образом главного героя повести Вощева; он композиционный и идейный стержень произведения.
Вощев — уже известный нам тип «сокровенного человека», усомнившегося в насильственно предлагаемых рецептах счастья. С другими платоновскими героями его роднит дух скитания. Так же как «душевный бедняк» из повести «Впрок», он измучен заботой за всеобщую действительность; он не имеет в душе «основной золотой миллиард, нашу идеологию» — это человек с открытой, незамутненной душой. Вощева не устраивает правда исторического момента, он согласен терпеть только ради приближения к высшей, «конечной» истине. Без высшего смысла у него «тело слабеет» и «скучает» голова. «Вощевская» линия в повести — линия сомнения и поиска — ведущая, постепенно она захватывает и других героев, первоначально «верующих».
Вощев — наиболее «авторский», концептуальный персонаж, во многом через него вводятся в повесть идеи Федорова. Этот герой поглощен высшей задачей — противостоянием забвению, смерти, упадку (энтропии). Он движется по пространству истории со своим вещевым мешком (возможно, отсюда его фамилия; по другой версии, она образована от «вотще» — идея тщеты); в него он собирает разные мелкие предметы, «забвенные пустяки», содержащие частицу сущности умерших. Странная деятельность Вощева противостоит строительству общепролетарского дома, открывает иной тип культурных ориентиров, напоминает о вечных нравственных ценностях. Роль образа Вощева значительна. Он взывает к восстановлению нарушенного идеального порядка жизни и духа, продолжая традиционное для русской классической литературы XIX века направление.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ. Время работы над повестью, обозначенное автором на последней странице текста (декабрь 1929 - апрель 1930 г.), указывает на то, что “Котлован” был написан Платоновым практически с натуры - в тот самый “Год великого перелома”, наступление которого провозгласила статья И. Сталина 7 ноября 1929 г. Точные временные рамки описанных в “Котловане” событий также заданы конкретными историческими фактами: 27 декабря 1929 г. Сталин объявляет о переходе к политике “ликвидации кулачества как класса”, а 2 марта 1930 г. в статье “Головокружение от успехов” ненадолго притормаживает насильственную коллективизацию.
Сюжетный пунктир повести весьма несложен. Главный герой повести, Вощев, уволен с механического завода в жаркую пору начала листопада (конец лета - начало осени), причем увольнение приходится на день его тридцатилетия. Интересно, что в год описываемых событий автору повести Платонову тоже исполнилось 30 лет, а его день рождения, как и день рождения Вощева, приходится на конец лета (28 августа). Это позволяет предположить, что мировоззренческий кругозор героя близок авторскому.
Документально зафиксированная причина увольнения Вощева - “рост слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда”. В завкоме, куда герой через день обращается с просьбой о новом месте работы, Вощев объясняет причину своей задумчивости: он размышляет о “плане общей жизни”, который мог бы принести “что-нибудь вроде счастья”. Получив отказ в трудоустройстве, герой отправляется в дорогу и спустя еще один день добирается до соседнего города. В поисках ночлега он попадает в барак, переполненный спящими рабочими, а утром в разговоре выясняет, что оказался в бригаде землекопов, которые “все знают”, потому что “всем организациям существование” дают. Иными словами, перед Вощевым носители “безответного счастья”, “способные без торжества хранить внутри себя истину”. Надеясь на то, что жизнь и работа рядом с этими людьми даст ответы на мучающие Вощева вопросы, он решает влиться в их коллектив.
Вскоре выясняется, что землекопы готовят котлован для фундамента большого здания, предназначенного для совместной жизни всех простых рабочих людей, пока еще ютящихся в бараках. Однако масштабы котлована в процессе работы все время увеличиваются, потому что все более грандиозным становится проект “общего дома”. Бригадир землекопов Чиклин приводит в барак, где живут рабочие, девочку-сироту Настю, которая теперь становится их общей воспитанницей.
До поздней осени Вощев работает вместе с землекопами, а потом оказывается свидетелем драматических событий в прилегающей к городу деревне. В эту деревню по указанию руководства направляются двое рабочих бригады: они должны помочь местному активу в проведении коллективизации. После того как они гибнут от рук неизвестных кулаков, в деревню прибывают Чиклин и члены его бригады, которые доводят до конца дело коллективизации. Они истребляют или сплавляют на плоту вниз по реке (в “далекое пространство”) всех зажиточных крестьян деревни. После этого рабочие возвращаются в город, к котловану. Финал повести - похороны умершей от быстротечной болезни Насти, которая к этому моменту стала общей дочерью землекопов. Одна из стенок котлована и становится для нее могилой.
Как видим, для перечисления основных событий повести хватило нескольких абзацев. Однако собственно сюжет - далеко не главный уровень выражения ее глубинных смыслов. Сюжет для Платонова всего лишь событийные рамки, в которых необходимо поведать о существе современной ему эпохи, о положении человека в послереволюционном мире.
Главные события сюжета - бесконечное рытье котлована и стремительная “спецоперация” по “ликвидации кулачества” - две части единого грандиозного плана строительства социализма. В городе это строительство заключается в возведении единого зданий, “куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата”; в деревне - в создании колхоза и уничтожении “кулаков”. Заметим, что конкретно-исторические аспекты создаваемой в повести картины существенно ретушированы: на первый план выступают мифопоэтические, обобщенно-символические грани описываемых событий.
Этой тенденции к символической обобщенности изображения в полной мере соответствуют название повести и особенности ее пространственно-временной организации. Образ-символ котлована отзывается в тексте множеством смысловых ассоциаций: в нем - “перелопачивание” жизни, “поднимаемая целина” земли, строительство храма - только идущее не вверх, а вниз; “дно” жизни (погружаясь в глубину котлована, землекопы опускаются все ниже от кромки земли); “котел коллективизма”, собирающий к себе тружеников; наконец, братская могила - и в прямом и в переносном смысле слова (здесь можно хоронить умирающих, здесь же погибает коллективная надежда на светлое будущее).
Временные рамки повествования обозначены в тексте “Котлована” не конкретными историческими датировками, а самыми общими указаниями на смену времен года: от ранней осени до зимы. При этом внутренняя “хронометрия” повести далека от четкости и какой бы то ни было ритмической упорядоченности. Время будто движется рывками, то почти останавливаясь, то ненадолго стремительно ускоряясь. О первых трех днях жизни Вощева (с момента увольнения до попадания в барак землекопов) еще можно судить благодаря указаниям на то, где и как он ночует, но в дальнейшем чередования дня и ночи перестают точно фиксироваться, а сюжетные события будто “отрываются” от календаря.
Изнурительная монотонность работы землекопов оттеняется повтором однообразных слов и словосочетаний: “до вечера”, “до утра”, “в следующее время”, “на рассвете”, “по вечерам”. Тем самым полгода сюжетного действия оборачивается бесконечным повторением одного и того же “суточного ролика”. Организация колхоза, напротив, проходит стремительно: сцены раскулачивания, высылки кулаков и праздника сельских активистов укладываются в одни сутки. Финал повести вновь возвращает читателя к ощущению бесконечно тянущегося дня, переходящего в вечную ночь: начиная с полудня Чиклин пятнадцать часов подряд копает могилу для Насти. Последняя “хронометрическая” деталь повести фиксирует момент погребения Насти в “вечном камне”: “Время было ночное...” Таким образом, на глазах читателя “текущее время” судьбоносных социально-исторических преобразований переплавляется в неподвижную вечность утраты. Последнее слово повести - слово “прощанье”.
В приведенной выше цитате часы “терпеливо идут”, будто преодолевая физически ощущаемое пространство. Этот пример иллюстрирует особый характер взаимосвязи времени и пространства в прозе Платонова: образно говоря, главным органом “переживания” времени становятся в мире писателя подошвы ног странствующего правдоискателя, часы и дни его движения просвечивают километрами пути. Внутренние же усилия героя, напряжение его сознания связаны с настоящим подвигом ожидания. “Его пеший путь лежал среди лета”, - сообщает читателю автор в самом начале повести о маршруте Вощева. Чтобы судить о времени, персонажу Платонова не нужны наручные часы, ему достаточно обратиться к пространству: “...Вощев подошел к окну, чтобы заметить начало ночи”. Пространство и время метонимически соприкасаются, а порой становятся взаимообратимыми, так что имя “места” становится своего рода псевдонимом “времени”. Стилистика Платонова побуждает прочитывать сам заголовок повести не только как “пространственную” метафору, но и как иносказание об эпохе. “Котлован” - это не только пропасть или бездна, но еще и пустая “воронка” остановившегося, исчерпавшего движение времени.
Если время в повести Платонова можно “видеть”, то ее художественное пространство утрачивает свой едва ли не важнейший атрибут - качество визуальной отчетливости, оптической резкости. Это качество платоновского видения мира становится особенно ощутимым, если понаблюдать за движениями персонажей. В то время как маршруты перемещений Раскольникова по Петербургу в “Преступлении и наказании” Ф.М. Достоевского или булгаковских героев по Москве в “Мастере и Маргарите” столь конкретны, что можно обозначить каждый из них на карте реального города, движения платоновских героев почти не соотносятся с ясными пространственными ориентирами, они практически лишены топографических “привязок”. Читателю невозможно представить, где находятся упоминаемые в повести город, завод, барак, дороги и т.п.
Обратите внимание на то, как изображается путь героя: “Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был”. “Неизвестные” места неведомого “пространства” придают блужданиям персонажей сновидческий, “сомнамбулический” характер: маршрут героя постоянно сбивается, он вновь и вновь возвращается к котловану. Персонажи повести беспрестанно перемещаются, но это движение часто передается Платоновым вне реальных “обстоятельств места” - туманными координатами абстрактных понятий. Чаще всего это язык недооформленных идеологических лозунгов: “в пролетарскую массу”, “под общее знамя”, “вслед ушедшей босой коллективизации”, “в даль истории, на вершину невидимых времен”, “обратно в старину”, “вперед, к своей надежде”, “в какую-то нежелательную даль жизни”. Блуждания людей по лишенной материальной плотности поверхности языковых абстракций оборачиваются лихорадочными поисками жизненной опоры, движениями в пространстве смыслов. “Обстоятельства сознания” значат для персонажей Платонова больше, чем обстоятельства быта.
“Броуновское” хаотичное “хожение” персонажей воплощает авторскую жалость об их бесприютности, сиротстве и потерянности в мире осуществляемых грандиозных проектов. Строя “общепролетарский дом”, люди оказываются бездомными странниками. В то же время автор близок своим героям в их нежелании остановиться, довольствоваться материально-конкретными целями, сколь бы внешне привлекательными они ни были. Платонов сопрягает их поиски с “лунной чистотой далекого масштаба”, “вопрошающим небом” и “бескорыстной, но мучительной силой звезд”.
Неудивительно, что в мире, лишенном привычных пространственно-временных опор, лишены традиционных причинно-следственных связей и описываемые события. В повести могут соседствовать друг с другом совершенно разнородные эпизоды, а их художественный смысл выявляется лишь тогда, когда читатель охватит мысленным взором всю представленную писателем картину, когда сквозь калейдоскопическое мелькание сцен он сумел различить отчетливую вязь мотивов. Проследим, например, как возникает и развивается в повести “деревенская тема”, связанная с мотивом коллективизации. Она берет начало во внешне случайном упоминании о мужике “с желтыми глазами”, который прибежал в артель землекопов и поселился в бараке, чтобы выполнять хозяйственную работу.
Вскоре именно он оказывается для обитателей барака “наличным виноватым буржуем”, а потому инвалид Жачев наносит ему “два удара в бок”. Вслед за тем с просьбой к землекопам является еще один житель близлежащей деревни. В овраге, который становится частью котлована, мужиками были спрятаны гробы, заготовленные ими впрок “по самообложению”. “У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство!” - сообщает землекопам пришелец. Его просьба воспринимается совершенно спокойно, как нечто само собой разумеющееся; правда, между рабочими и мужиком возникает небольшой спор. Два гроба уже использованы Чиклиным (один - в качестве постели для Насти, другой - как “красный уголок” для ее игрушек), мужик же настаивает на возврате двух “маломерных фобов”, заготовленных по росту для деревенских ребятишек.
Этот разговор передается в повести в нейтральной эмоциональной тональности, которая придает эпизоду абсурдные тона: создается впечатление страшного сна, наваждения. Абсурдность происходящего заостряется в примыкающем к эпизоду разговоре Насти с Чиклиным. Узнав от бригадира, что приходившие за гробами мужики вовсе не буржуи, она с неумолимой логикой ребенка спрашивает его: “А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!” О завершении разговора автор сообщает: “Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить”.
В собственно сельских сценах повести еще больше смысловых смещений: соседствующие друг с другом разнородные эпизоды создают впечатление логической несвязности, калейдоскопического мелькания обрывков смутного сна: активист обучает крестьянок политической грамоте, медведь по запаху опознает деревенских кулаков и приводит Чиклина и Вощева к их избам, лошади самостоятельно заготавливают себе солому, раскулаченные крестьяне прощаются друг с другом перед тем, как всем вместе отправиться на плоту в море.
Ослабляя или вовсе разрушая причинно-следственные отношения между изображаемыми событиями, Платонов тем самым выявляет чудовищную нелогичность современной ему истории, абсурдную бездумность ее творцов. Грандиозный проект “общепролетарского дома” остается миражом, а единственной реальностью “нового мира” оказывается “пропасть котлована”.
СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ ПОВЕСТИ. Центральный персонаж повести, Вощев, являет собой характерный для платоновской прозы тип героя-наблюдателя. Он продолжает в его творчестве вереницу “задумавшихся”, “усомнившихся” и ищущих смысла жизни героев. “У меня без истины тело слабнет...” - отвечает он на расспросы землекопов. Все имущество Вощева умещается в мешок, который он постоянно носит с собой: туда он складывает “всякие предметы несчастья и безвестности” - палый лист, корешки трав, веточки, разную ветошь. За внешним чудачеством его “собирательства” стоит важная мировоззренческая установка: всякой вещи мира герой стремится продлить существование. Его фамилия - отзвук этой любви к веществу мира, к вещам разного веса и калибра. В то же время в ней угадываются фонетически близкие слова “вообще” и “вотще”, сигнализирующие о направлении поисков героя (он стремится открыть смысл общего существования) и о печальной безуспешности его всеобъемлющей заботы (поиски окажутся тщетными).
Ближайшее окружение Вощева в повести представлено образами землекопов. Многие из них безымянны, на первый план выходит их коллективный портрет, составленный не из описаний лиц, а из самых общих биологических характеристик: “Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек... Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда”. На фоне этой обезличенной зарисовки проступают не столько индивидуализированные образы, сколько обобщенные амплуа: бригадир Чиклин, энтузиаст Сафронов, инвалид Жачев, “ябедник” Козлов. Пытаясь “забыться” в яростной работе, рабочие перестают думать, оставляя эту заботу руководителям вроде Пашкина. Истина для них - интеллигентская умственная игра, ничего не меняющая в реальности, а надеяться они могут лишь на собственные сверхусилия, на энтузиазм труда.
Особняком в системе персонажей стоят безымянный “активист” и инженер Прушевский. Образ первого из них - сатирическое воплощение “мертвой души” руководителя-бюрократа, спешащего отреагировать на очередную директиву властей и доводящего “линию партии” до абсурда. Он составляет “приемочный счет” на гробы, расставляет крестьян в виде пятиконечной звезды, обучает молодых крестьянок грамоте, заставляя заучивать непонятные им слова: “Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике...” Образ Прушевского - очередной вариант традиционного в прозе Платонова типа ученого, одинокого мыслителя, претендующего на покорение природных стихий. Именно ему принадлежит проект “вечного дома” - своего рода современной Вавилонской башни. Настроения Прушевского неустойчивы: он то элегически вспоминает о юношеской любви, то испытывает приступы безысходности и решает покончить с собой, но в итоге уходит вслед за девушкой “в бедном платке”, глаза которой влекут его “удивленной любовью”.
Однако главными героями своей повести Платонов делает работящих и искренних тружеников. Они жаждут счастья не столько для себя, сколько для своих потомков. Сами их представления о счастье никак не выявляются, но они явно не похожи на “рай” их руководителя Пашкина, живущего как бы уже в будущем, в сытости и довольстве. Одиночки, верящие в то, что “счастье произойдет от материализма”, легко получают свою долю и хорошо устраиваются. Таков, например, слабосильный Козлов, уходящий в город, чтобы “за всем следить” и “сильно любить пролетарскую массу”. Ho для большинства рабочих счастье - это прежде всего лучшая доля для детей. Пусть собственная жизнь землекопов тяжела, она освящена смыслом существования девочки Насти, сироты, удочеренной рабочими.
Вощев рассматривает девочку, как в детстве ангела на церковной стене; он надеется, что “это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню”. Настя становится для землекопов живым символом будущего, материальным подтверждением реальности их веры. Греческое по происхождению имя Анастасия (“воскресшая”) несет в контексте повести идею воскрешения счастья. Тем трагичнее и сумрачнее финал повести, приводящий к смерти однажды уже “воскресавшей” девочки (Чиклин нашел ее рядом с умиравшей матерью). Смысловой итог свершившемуся событию подводят размышления Вощева, стоящего над тельцем только что умершей Насти: “Он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?”
Портретные характеристики персонажей “Котлована” чрезвычайно скудны, так что лица большинства героев зрительно непредставимы. Практически игнорируя физиономические приметы, Платонов “прочитывает” лица как “бытийные” знаки общего состояния мира. Так, на лицах девушек-пионерок “остались трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения”; у Козлова было “мутное однообразное лицо” и “сырые глаза”, а у Чиклина - “маленькая каменистая голова”. Особенно интересно описание внешности прибежавшего из деревни мужика: “Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии”.
Персонажи будто развоплощаются, их образы “редуцируются” до выражаемой ими идеи или эмоции. Показательно, что абсолютно лишены собственных имен обитатели деревни, люди фигурируют под огрубленными социологическими “кличками”: “буржуй”, “полубуржуй”, “кулак”, “подкулачник”, “вредитель”, “мобилизованный кадр”, “подручный авангарда”, “середняцкий старичок”, “ведущие бедняки” и т.д. В “боковую графу” списка уничтоженных кулаков активист записывает “признаки существования” и “имущественное настроение”: в мире реализуемой утопии нет места живым людям.
Зато в полном соответствии с логикой абсурда в нем находится место животным, действующим в сельских сценах повести наряду с людьми и подчиняющимся тем же нормам поведения. Лошади, как и пионерки, ходят строем, будто они “с точностью убедились в колхозном строе жизни”; медведь-молотобоец столь же самозабвенно работает на кузне, как землекопы - в котловане, будто он осознал себя “сельским пролетарием” и проникся “классовым чутьем”; а вот одинокая собака брешет на чужой деревне “по-ста-ринному”. Такое художественное решение усиливает смысловую неоднозначность повести. С одной стороны, выявляется идея кровной связи человека с природой, единство всего живого на земле, взаимообратимость человеческого и природного начал. “У него душа - лошадь. Пускай он теперь порожняком поживет, а его ветер продует”, - говорит Чиклин об оставшемся без лошади и чувствующем себя “внутри пустым” мужике.
С другой стороны, использование зооморфной (“животноподобной”) образности неожиданно “заземляет”, материализует, делает чувственно ощутимыми и наглядными абстрактные понятия “классовая борьба”, “классовое чутье”, “обобществление”. Так, например, реализуется стертая метафора “классовое чутье”, когда медведь-кузнец “вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше”; “уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага”. Реализация метафоры становится еще более очевидной в похвале Чиклина активисту: “Ты сознательный молодец, ты чуешь классы, как животное”. Под стать животным действуют люди: Чиклин механически убивает случайно оказавшегося под рукой мужика; Вощев “делает удар в лицо” “подкулачнику”, после которого тот не отзывается; мужики не делают различий между убийством активистов, скота, вырубкой деревьев и уничтожением собственной плоти. Коллективизация предстает в повести как коллективное убийство и самоубийство.
В финальных сценах повести присоединившиеся к рабочим мужики (оставшиеся в живых после коллективизации) оказываются в глубине котлована: “Все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована”. В этой жажде “спасения навеки” вновь объединяются в финале люди и животные: лошади возят бутовый камень, медведь таскает этот камень в передних лапах. “Спастись навеки” в контексте “Котлована” означает только одно - умереть. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ. При первом знакомстве язык Платонова ставит читателя в тупик: на фоне нормативного литературного языка он кажется диковинным, вычурным, неправильным. Главное искушение в объяснении такого языка - признать платоновское словоупотребление ироническим, допустить, что Платонов намеренно, сознательно выворачивает фразу, чтобы обнажить нелепость, подчеркнуть абсурдность изображаемого. “Уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени”, - решает для себя активист колхоза имени Генеральной линии. Формулировка мысли активиста, взятая сама по себе, может быть истолкована как знак иронии автора в адрес новых “хозяев жизни”. Проблема, однако, в том, что у Платонова почти все фразы такие: со “смещенным” словоупотреблением, с заменой слова малоподходящим на первый взгляд синонимом, с настойчиво используемыми плеоназмами, с не вполне объяснимыми инверсиями.
В прозе Платонова нет заметной границы между словами автора и словами персонажей: не отделяя себя от героев, автор как бы вместе с ними учится говорить, мучительно подыскивает слова. Язык Платонова был сформирован стихией послереволюционных лет. В 1920-е гг. языковая норма стремительно менялась: расширился лексический состав языка, в общий котел новой речи попадали слова разных стилевых пластов; бытовая лексика соседствовала с тяжеловесной архаикой, жаргон - с еще “не переваренными” сознанием человека из народа абстрактными понятиями. В этом лингвистическом хаосе разрушалась сложившаяся в литературном языке иерархия смыслов, исчезала оппозиция высокого и низкого стилей. Слова прочитывались и использовались как бы заново, вне традиции словоупотребления, сочетались без разбора, вне зависимости от принадлежности к тому или иному семантическому полю. В этой словесной вакханалии и сформировалось главное противоречие между глобальностью новых смыслов, требовавших новых слов, и отсутствием устойчивого, отстоявшегося словоупотребления, строительного материала речи.
Такова языковая закваска платоновского стиля. Надо сказать, что общепринятого, устоявшегося мнения о причинах “странноя-зычия” Платонова нет. Одна из версий заключается в том, что стиль речи писателя глубоко аналитический. Писателю важно не изобразить мир, не воспроизвести его в наглядных образах, а выразить мысль о мире, причем “мысль, мучающуюся чувством”. Слово Платонова, какое бы абстрактное понятие оно ни выражало, стремится не потерять полноты эмоционального чувства. Из-за этой эмоциональной нагруженности слова трудно “притираются” друг к другу; как незачищенные провода, соединения слов “искрят”. Тем не менее соединение слов оказывается возможным за счет того, что абстрактные слова материально уплотняются, теряют свое привычное абстрактное значение, а конкретные, “бытовые” слова получают символическую подсветку, просвечивают дополнительным переносным смыслом. Иносказание может быть прочитано буквально, как констатация факта, а обычная фраза, конкретное обозначение чреваты сгустком иносказания.
Возникает оригинальный словесный кентавр - симбиоз абстрактного и конкретного. Вот характерный пример: “Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного сознания”. В этом предложении абстрактное и непредставимое “текущее время” наделяется признаками материального объекта, передвигающегося в пространстве: оно идет “тихо” (как?) и во “мраке колхоза” (где?). В то же время совершенно конкретное обозначение темноты (“полночный мрак”) приобретает дополнительный смысловой оттенок - словосочетание не столько обозначает время суток, сколько передает отношение к “мраку колхоза”, наваждению коллективизации.
Согласно другой версии, Платонов сознательно подчинил себя “языку утопии”, языку эпохи. Он перенял обессмысленный и рассчитанный на простое запоминание (а не понимание) язык идеологических штампов, догм и клише, чтобы взорвать его изнутри, доведя до абсурда. Тем самым Платонов сознательно нарушал нормы русского языка, чтобы предотвратить его превращение в оболванивающий язык утопии. “Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами”, - считал Иосиф Бродский, называя в финале своей статьи язык Платонова “языком, компрометирующим время, пространство, саму жизнь и смерть”.
Ведущий стилевой прием Платонова - художественно оправданное нарушение лексической сочетаемости и синтаксического порядка слов. Такое нарушение оживляет и обогащает фразу, придает ей глубину и многозначность. Проделаем небольшой стилистический эксперимент: заключим в скобки “лишние”, факультативные с точки зрения здравого смысла слова и словосочетания в первом предложении повести: “В день тридцатилетия (личной жизни) Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, (где он добывал средства для своего существования)”. Заведомо избыточное уточнение, отмеченное здесь скобками, нарушает привычное смысловое равновесие фразы, усложняет восприятие. Ho для Платонова главным оказывается не сообщить об увольнении Вощева, а привлечь внимание читателя к тем “зернам смысла”, которые позже прорастут в повести: Вощев будет мучительно искать смысла личной жизни и общего существования; средством обретения такого смысла станет для землекопов напряженная работа в котловане. Таким образом, уже в первой фразе заложена смысловая “матрица” повести, которая определяет движение ее речевого потока.
В языке Платонова слово является не столько единицей предложения, сколько единицей всего произведения. Поэтому в рамках конкретного предложения оно может быть размещено внешне “неправильно” - “вкривь и вкось”. Слово насыщается множеством контекстуальных значений и становится единицей высших уровней текста, например сюжета и художественного пространства. Нарушения синтаксических связей в отдельных предложениях оказываются необходимы для создания единой смысловой перспективы всей повести. Вот почему “лишними”, формально “неуместными” оказываются в высказываниях персонажей Платонова не всякие слова. Как правило, это слова, передающие устойчивый смысловой и эмоциональный комплекс: жизнь, смерть, существование, томление, скука, неизвестность, направление движения, цель, смысл и т.д.
Признаки предметов, действий, состояний будто отрываются от конкретных слов, с которыми они обычно сочетаются, и начинают свободно блуждать в повести, прикрепляясь к “необычным” объектам. Примеров такого словоупотребления в повести Платонова множество: “безжалостно родился”, “выпуклая бдительность актива”, “текла неприютная вода”, “тоскливая глина”, “трудное пространство”. Очевидно, что признаки предметов или действий распространяются за установленные языковой нормой рамки; прилагательные или наречия занимают “не свои места”. Одна из часто встречающихся в языке Платонова особенностей - замена обстоятельств определениями: “постучать негромкой рукой” (вместо “негромко постучать”), “дать немедленный свисток” (“немедленно дать свисток”), “ударить молчаливой головой” (“молча ударить головой”). В мире писателя свойства и качества “вещества существования” важнее и значимее, чем характер действия. Отсюда предпочтение, отдаваемое Платоновым прилагательному (признаку предмета или явления) перед наречием (признаком действия).
Сочинительная связь в языке повести может возникать между качественно разнородными членами: “от лампы и высказанных слов стало душно и скучно”; “волновались кругом ветры и травы от солнца”. Собирательные обозначения могут заменять конкретное существительное: “Кулацкий сектор ехал по речке в море и далее”. Обычные глаголы начинают функционировать как глаголы движения, получая направленность: “Некуда жить, вот и думаешь в голову”. Определения, прикрепляемые обычно к живым людям, используются для характеристики неодушевленных объектов: “терпеливые, согбенные плетни, тщедушные машины”. Смешиваются и взаимодействуют слуховые, зрительные и вкусовые ощущения: “горячий шерстяной голос”.
Регулярно используется Платоновым прием реализации метафоры, когда словам, утратившим в речевом обиходе свое прямое, предметное значение, возвращается их “природный” смысл. Нередко такое превращение переносного значения в прямое совершается в соответствии с наивной детской логикой. Так, заболевшая Настя просит Чиклина: “Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей. Сними с меня рубашку, а то сгорит, выздоровлю - ходить не в чем будет!”
Итак, все элементы художественного мира Платонова подчинены главному - бесконечному поиску, уточнению смысла происходящего. Масштабы видения мира - пространственные, временные, понятийные - это масштабы универсального целого, а не частей. Локальная неупорядоченность действий, событий, сочетаний слов преодолевается высшей упорядоченностью авторского взгляда на мир. Смысловые смещения в рамках предложения, эпизода, сюжета в прозе Платонова наиболее адекватно отражают реальную смещенность, сдвинутость мироустройства эпохи глобальных преобразований. Слова, словосочетания, эпизоды в прозе писателя не могут и не должны быть более понятны, более логичны, чем та жизненная реальность, которую они передают. Иными словами, именно “юродивая” проза Платонова - наиболее точное зеркало фантастической реальности советской жизни 1920-1930-х гг.
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899 – 1951) являл собой особый тип русского человека, который стремился соединить мечту и дело, утопию и реальность, «вечные» вопросы с их немедленной практической реализацией. В этом отношении он был подобен «русским мальчикам» Ф.М. Достоевского, которые непременно хотят решить все мировые вопросы – и прежде всего «есть ли Бог, есть ли бессмертие». Родина русских мальчиков – российская провинция, и то, что Платонов родился в Ямской слободе на окраине Воронежа, очень значимо для понимания его как писателя.
В духовном становлении Платонова значительную роль сыграла учеба в церковно-приходской школе. В 1922 году он с огромной теплотой вспоминал свою первую учительницу, от которой узнал «пропетую сердцем сказку про Человека, родимого «всякому дыханию», траве и зверю», то есть об Иисусе Христе как высшем типе личности. Идеалы справедливости, добра, праведничества – все это было заронено в душу Платонова с самого начала.
Другая часть его души была отдана идее технического усовершенствования жизни. Здесь сказалось и то, что он родился в семье железнодорожного слесаря, и то, что получил образование в политехникуме. В том же 1922 году Платонов писал о народе, который «выводится из одной страны – очарованной просторной России, родины странников и богородицы», и вводится «в другую Россию – страну мысли и металла, страну коммунистической революции, в страну энергии и электричества».
Первая книга Андрея Платонова, вышедшая в Воронеже в 1921 году, называлась «Электрофикация», и в ней формулировалась мечта об изменении сущности человека посредством технической революции. В известном смысле слова русская революция и носила для него прежде всего «технологический» характер, ибо была неотделима от проблем изменения вселенной и человека. «Человек – художник, а глина для его творчества – вселенная», – заявлял Платонов в статье «Интернационал технического творчества» (1922).
Платонов не только декларирует, но и стремится к осуществлению своих деклараций. Из анкет, заполнявшихся им в разное время, можно узнать о его профессиях: электротехник – с 1917, мелиоратор – с конца 1921, зав. мелиоративными работами в губернии – с 1922. В 1922 – 1926 годах под его наблюдением выкопано 763 пруда, 332 колодца, построено 800 плотин и 3 электростанции. Он – автор многочисленных технических изобретений. При этом Платонов не был бы Платоновым, если не попытался осуществить неосуществимое – проект вечного двигателя.
Как и любимый им Маяковский, Платонов воспринимал жизнь как штуку «малооборудованную». В автобиографии он писал: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи
техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом – литературой». Однако именно литература стала делом всей его жизни. В 1922 году он выпускает книгу стихов «Голубая глубина», но призванием
его стала не поэзия, а проза, в которой, впрочем, всегда оставалось неистребимое поэтическое начало.
Первый период творчества Платонова – утопия и фантастика. Речь идет о произведениях, представляющих собой своего рода цикл с единым метасюжетом и общей проблематикой – «Маркун» (1921), «Потомки солнца» (1922), «Лунная бомба» (1926) и «Эфирный тракт» (1927). Кроме того, они объединены и типом героя –одиночки-изобретателя, работающего над переустройством вселенной.
Так, Маркун мечтает овладеть электромагнитным полем, чтобы заставить работать на человека свет. В повести «Потомки солнца» инженер Вогулов ставит себе задачей подчинение материи, и для него это связано с «вопросом дальнейшего роста человечества»: «Земля с развитием человечества становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку». Инженер Петер Крейцкопф из «Лунной бомбы» мечтает о космическом расселении человечества и хочет открыть на других планетах источники питания для земной жизни.
Все герои фантастических повестей Платонова глубоко несчастные люди. Переделывая мир, они оказываются далеки от проникновения в самые сокровенные его тайны – тайны любви и смерти. Более того, любовь и смерть как иррациональные величины определяют род избранной ими деятельности. Например, одержимость инженера Вогулова возникает из того, что некогда он любил девушку, которая.скоропостижно умерла. Сила несчастной любви хлынула в его мозг и превратилась в мысль. С тех пор мысль и работа стали для Вогулова единственной ценностью.
Вогулов считает, что для покорения вселенной нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть в мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Но все это не дает ему самого главного – счастья, ибо единственное, что нужно человеку, как сказано об этом в «Потомках солнца», – это «душа другого человека». Невозможно победить мир с помощью насилия, без любви к нему: «Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного».
Безлюбость героев Платонова опасна. Инженер Матиссен из повести «Эфирный тракт» способен практически реализовать разрушительные потенции мысли, превратив ее в бомбу, способную уничтожить мир. Но неожиданно он видит во сне свою умершую мать: «[...] Из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение». Мука умершей матери неподвластна Матиссену, умеющему лишь разрушать.
Создавая свои произведения, Платонов подчеркивает, что технологический подход к миру опасен, если не одухотворен любовью. В идее переделки мироздания обнаруживается, таким образом, коренной изъян – она построена на силовом усилии и голом технологическом расчете. Платонов ставит вопрос о синтезе инженерной идеи с любовным и трепетным отношением к объекту переделки. Гениальность без любви – безусловное зло.
Отношение к любви как универсальному чувству пришло к Платонову из христианства, которое он понимал довольно своеобразно. В неопубликованном трактате «О любви» он предупреждал: «Если мы хотим разрушить религию и сознаем, что это надо сделать непременно, т.к. коммунизм и религия несовместимы, то народу надо дать вместо религии не меньше, а больше, чем религия. У нас многие думают, что веру можно отнять, а лучшего ничего не дать. Душа нынешнего человека так сорганизована, так устроена, что вынь из нее веру, она вся опрокинется, и народ выйдет из пространств с вилами и топорами и уничтожит, истребит пустые города, отнявшие у народа его утешение, бессмысленное и ложное, но единственное утешение».
Для понимания фантастических повестей Платонова важна еще одна цитата из статьи 1920 года «Христос и мы»: «Забыт главный завет Христа: царство Божие усилием берется. [...]. Не покорность, не мечтательная радость и молитва упования изменят мир, приблизят царство Христово, а пламенный гнев, восстания, горящая тоска и невозможность любви. Тут зло, но это зло так велико, что оно выходит из своих пределов и переходит в свою любовь – ту любовь, о которой всю жизнь говорил Христос и за которую пошел на крест. [...] Он давно мертв, но мы делаем его дело, и он жив в нас». Герои Платонова начинают с «пламенного гнева», но не достигают любви. В этом их личная драма, обусловленная односторонностью безлюбого технологического подхода к миру.
К 1926 году заканчивается утопический, фантастический период его творчества и начинается, условно говоря, период «реалистический». Это – повести «Город Градов», «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода».
Как и многие его современники, Платонов пережил и увлечение революцией, и разочарование в ней. О том, что писатель начинает постепенно открывать для себя негативные стороны нового общественного строя, свидетельствует роман «Чевенгур» (1926 – 1929). В этом произведении автор изображает коммуну, организованную жителями уездного города Чевенгура. Вся вторая половина романа посвящена описанию места, где люди «доехали в коммунизм жизни».
Чевенгурцы перестали работать, потому что «труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием». В Чевенгуре за всех трудится солнце, отпускающее «людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки». Что касается коммунаров, то они «отдыхали от веков угнетения и не могли отдохнуть». Основная профессия чевенгурцев – душа, «а продукт ее – дружба и товарищество».
Но товарищество в Чевенгуре начинается с ожесточенного искоренения местных буржуев. Платонов описывает равенство людей в страдании и смерти как высшую и неоспоримую реальность, начисто игнорируемую в ожесточении классовой борьбы. Противоестественность чевенгурской коммуны окончательно выявляется смертью ребенка, с которым на руках приходит нищенка. Эта смерть заставляет одного из главных героев – Копенкина – задавать вопросы, на которые он не получает ответа: «Какой же это коммунизм? От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм».
Все дело в том, что в Чевенгуре коммунизм «действует отдельно от людей». Врагом чевенгурского коммунизма оказывается природа, которая не считается с официально объявленным царством будущего. Неразрешимую внутренне ситуацию разрешает внешняя причина – вторжение врагов, уничтожающих коммуну
Герои «Чевенгура» упираются в трагический тупик. Это не только их личная драма, но и трагедия страны, идущей в никуда. Платонов заставляет Чевенгур погибнуть в борьбе с некоей мощной внешней силой, потому что слишком хорошо чувствует его внутреннюю обреченность.
В связи с этим возникает резонный вопрос: с кем сражаются чевенгурцы? Ведь гражданская война кончилась и белых уже нет. Один из зарубежных исследователей Платонова полагает, что речь идет о ликвидации сталинским режимом самодеятельных народных коммунн: «Сошедшиеся в смертельном бою у ворот Чевенгура противники были с обеих сторон коммунистами: одни защищали апостольский период, веру и надежду, связанные с ним, другие – начавшийся церковный период».
Окончание романа совпало с началом нового периода в жизни страны – индустриализации и коллективизации. 1929 год был объявлен «годом великого перелома», и социализм из фазы самодеятельного массового творчества вступил в фазу государственного плана.
Не удивительно, что вслед за «Чевенгуром» Платонов без передышки начинает исследование фазы государственного строительства коммунизма в отдельно взятой стране. В 1930 году он пишет повесть «Котлован», которая, как и «Чевенгур», при его жизни осталась ненапечатанной (в СССР «Котлован» был опубликован в 1987 году, а «Чевенгур» – в 1988-м).
Внешне «Котлован» носил все черты «производственной прозы» – замена фабулы изображением трудового процесса как главного «события». Но производственная жизнь 30-х годов становилась у Платонова материалом для философской притчи и трамплином для грандиозного обобщения отнюдь не в духе нарождающегося «социалистического реализма».
Рабочие роют котлован под фундамент огромного дома, куда поселится местный пролетариат. Философское содержание «Котлована» перекликается с некоторыми мотивами лирики В. Маяковского – в частности, с мотивом «построенного в боях социализма», который станет для самих строителей «общим памятником». Речь шла о настоящем, принесенном будущему в жертву. Повесть была закончена в апреле 1930 года, то есть совпала по времени с самоубийством Маяковского.
Некоторые исследователи указывали на перекличку «Котлована» с библейским сюжетом о строительстве вавилонской башни. В самом деле, инженер Прушевский думает о том, что «через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». Однако и в этом пассаже звучат зловещие кладбищенские обертоны, особенно в словосочетании «вечное поселение».
Герои Платонова, роющие котлован, сознательно отказываются от своего настоящего ради будущего. «Мы ведь не животные, – говорит один из землекопов Сафонов, – мы можем жить ради энтузиазма». Инвалид Жачев видит в своей жизни «уродство капитализма» и мечтает о том, что «убьет когда-нибудь вскоре всю их (врагов социализма) массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство». Новая жизнь для них начинается с абсолютного нуля, да они и самих себя согласны считать нулями, но только такими нулями, из которых родится вселенское будущее: «Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок – для будущего счастья и для детства».
Один из героев повести Платонова по фамилии Вощев приходит на котлован в поисках истины, поскольку ему «без истины стыдно жить». Однако он смутно ощущает в рытье котлована какое-то большое «не то». Он видит прежде всего несоответствие тяжести земляных работ захлебывающемуся от энтузиазма репродуктору. Ему «становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио», которые он воспринимает как «личный позор». Но и землекопы чувствуют такую же неловкость. Перед их выходом на работу профсоюз организует музыкальный ансамбль. «Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием – он не чувствовал своих заслуг...» Там, где производственная проза 30-х годов изображала радость творческого труда, Платонов рисует этот труд нечеловечески тяжелым, одуряющим, не приносящим радости и не содержащим вдохновения. А раз в нем нет чувства счастья, то и наличие истины проблематично. Землекопы сами, впрочем, не заняты поиском истины, скорее наоборот. Не случайно Сафронов подозрительно относится к ищущему истину Вощеву, потому что, возможно, «истина лишь классовый враг». Они озабочены не истиной, а социальной справедливостью и с удовольствием принимают участие в раскулачивании.
Платонов уравнивает кулаков и землекопов по степени взаимного ожесточения. Рытье котлована требует социальной ненависти не меньше, чем сопротивление раскулачиванию. Зажиточные мужики перестают кормить скотину. Один из них приходит в стойло к своей лошади и спрашивает: « – Значит, ты не умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо». Страдания животного изображаются Платоновым с пронзительной силой. Голодная собака выдирает кусок мяса из задней ноги голодной лошади, стоящей в оцепенении. Боль на минуту возвращает лошадь к жизни, а две собаки тем временем с новой силой отъедают у нее заднюю ногу. В этой бесчеловечности по отношению к живой жизни повинны все: и те, кого раскулачивают, и те, кто раскулачивает.
Ликвидация людей происходит до ужаса просто. Кулаков сажают на огромный плот, чтобы пустить по предзимней реке на верную смерть. Крестьянин, вышвырнутый на снег из родной избы, грозится: «Ликвидировали? Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!» Взаимное ожесточение обеих сторон ликвидирует какой-либо вопрос об истине, которую пытается найти Вощев.
Безусловным критерием истины для Платонова всегда была любовь. Герои «Котлована» испытывают нехватку любви, ибо жизнь не может строиться только на ненависти к врагам и жертве во имя абстрактного будущего. Про одного из героев повести Платонов пишет: «Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти». Он признается Чиклину, как однажды в юности увидел проходящую мимо женщину, и с тех пор чувствует по ней тоску. Он ощущает в этой женщине пропущенную возможность счастья и хочет «еще раз посмотреть на нее».
Чиклин знает эту женщину, дочь бывшего хозяина кафельно-изразцового завода, и обещает привести ее к Прушевскому. Женщина, о которой говорит Прушевский, умирает на соломе в лохмотьях, оставив после себя дочку Настю. Девочку удочеряют землекопы, и для них она становится тем живым конкретным смыслом, ради которого роется котлован.
Настя хорошо усвоила, что ее мать была «буржуйкой», поскольку «буржуйки теперь все умирают». В ее детском умишке противоестественно сочетаются любовь к матери и ненависть к сволочам - «буржуям»: «Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала». Тоска по умершей матери не дает Насте жить спокойно: «Я опять к маме хочу». И когда ей объясняют, что от мамы остались одни кости, она заявляет: «Неси мне мамины кости, я хочу их!» Ребенок не в состоянии жить в атмосфере ненависти и сиротства. Умершую Настю землекопы хоронят в котловане. «Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем теперь ему нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?» Будущее, ради которого жертвовали собой землекопы, погублено котлованом.
Уже в «Чевенгуре» выведен Прошка Дванов, который наживается на коммуне. Его жена потихоньку копит деньги и прячет их у тетки в городе – создает «фонды». Прошка имеет на этот счет свою философию: «Где организация, там всегда думает не более одного человека». В «Котловане» таким думающим одиночкой является инженер Пашкин, который «стоял в авангарде, накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело – не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс». Эти люди устраиваются в настоящем, не дожидаясь будущего. Они достигают коммунизма лично, строя свое благополучие на обмане людей, копошащихся в «котлованах». Так конкретизируется догадка о том «главном человеке», который один придет в коммунизм.
В 1929 году в журнале «Октябрь» был опубликован рассказ Платонова «Усомнившийся Макар». Его герой Макар Ганушкин приезжает в Москву, чтобы увидеть «центр государства». Там ему снится гора, на которой стоит «научный человек», думающий «лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре»: «Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. [...] Миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах».
Макар видит на московских улицах «сплошных научно-грамотных личностей», в чем-то неуловимо похожих на того, кто ему приснился, и ему делается «жутко во внутреннем чувстве». Макар понимает, что в будущем ему нет места по одной простой причине – он обречен на жертву в настоящем. Платонов ставил в центр массового человека, который задумался о цели и смысле движения к будущему и о своем месте в этом движении. Это было опасно, тем более, что платоновский Макар догадывался и о том, кто обрек его на то, чтобы стать строительным мусором истории. На фоне отмечавшегося в 1929 году 50-летнего юбилея Сталина притча о Макаре и «научном человеке» прочитывалась однозначно.
Идеи, которые нашли отражение к произведениях Платонова 20 – 30-х годов, были более, чем рискованными. «Усомнившийся Макар» был подвергнут жесточайшей критике, которая совпала по времени с началом работы над «Котлованом». В дальнейшем для Платонова был просто закрыт путь к читателям. В 1937 году в журнале «Красная новь» (№ 10) была опубликована погромная статья критика А. Гурвича «Андрей Платонов», которая положила начало новой травле писателя. В 1938 году был арестован его сын (он вернется из лагеря в 1941 году больным и умрет от туберкулеза в 1943-м). В 1941 году перед самой войной Платонов пишет рассказ «В прекрасном и яростном мире», где точно отражена трагическая ситуация, в которой он оказался.
Герой рассказа машинист Мальцев, гений своего дела, слепнет от внезапного удара молнии во время поездки. По ходу сюжета выясняется, что в природе существует «тайный неуловимый расчет» роковых сил, губящих людей этого типа: «[...] Эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей». Рассказчик ставит эксперимент: берет с собой Мальцева в поездку и, намеренно не сбавляя скорости, ведет паровоз на желтый свет (желтый светофор означает, что свободен только один перегон и машинист должен снизить скорость, чтобы не столкнуться с идущим впереди поездом). Происходит чудо – слепой машинист чутьем угадывает ситуацию.
«– Закрой пар! – сказал мне Мальцев.
Я промолчал, волнуясь всем сердцем.
Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.- Я вижу желтый свет, – сказал он и повел рукоятку тормоза на себя».
Мальцева спасает то, что должно было погубить. За этим встает вера самого Платонова в спасительную силу собственного таланта. В самых неблагоприятных, роковых для себя ситуациях Платонов продолжал работать, потому что видел путь, по которому следует идти.
Платонов начал свой путь с провозглашения утопии и прошел через беспощадный анализ, разрушивший эту утопию. Он пришел к выводу, что ценность организационной идеи не может быть сравнима с ценностью жизни самой по себе. Отношение Платонову к миру хорошо поясняет одно из писем к жене, в котором он писал: «Мое спасение – в переходе моей любви в религию. И всех людей в этом спасение».
Несмотря на разнообразие тем произведений А.П. Платонова, которого волновали проблемы электрификации и коллективизации, гражданской войны и строительства коммунизма, все их объединяет стремление писателя найти путь к счастью, определить, в чем радость «человеческого сердца». Платонов решал эти вопросы, обращаясь к реалиям окружающей его жизни. Повесть «Котлован» посвящена времени индустриализации и начала коллективизации в молодой Советской стране, в светлое коммунистическое будущее которой автор очень верил. Правда, Платонова
Все больше и больше начинало волновать, что в «плане общей жизни» практически не оставляли места конкретному человеку, с его думами, переживаниями, чувствами. И своими произведениями писатель хотел предостеречь чересчур усердных «активистов» от роковых для русского народа ошибок.
Сцена раскулачивания в повести «Котлован» очень ярко и точно раскрывает суть проводимой в советской деревне коллективизации. Восприятие колхоза показано глазами ребенка – Насти. Она спрашивает Чиклина: «А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз!» Это нововведение понимается как совершенно новая жизнь, рай на земле. Даже взрослые «нездешние люди» ждут от колхоза «радости»: «Где же колхозное благо – иль мы даром шли?» Эти вопросы вызваны разочарованием от истинной картины, открывшейся перед взором странников: «Посторонний, пришлый народ расположился кучами и малыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близ ночного, померкшего костра». Символическим выглядит «ночной, померкший костер» и «общее скопление» колхозников. За простой неустроенностью этих людей (сравним с «прочными, чистыми избами» «кулацкого класса») скрывается еще и их безликость. Поэтому главным их представителем показан медведь-молотобоец, получеловек-полуживотное. Он обладает способностью к производительному труду, но лишен самого главного – умения мыслить и, соответственно, говорить. Мышление подменено в медведе «классовым чутьем». Впрочем, ведь именно это и требовалось в новом советском обществе, мыслить за всех мог «один … главный человек». Неслучайно у Чиклина захватывает дыхание и он открывает дверь, «чтоб видна была свобода», когда «рассудительный мужик» призывает его обдумать целесообразность раскулачивания. Легче всего просто отвернуться от правды и предоставить другим решать за себя, переложив ответственность на безликих «мы». «Не твое дело, стервец! – отвечает Чиклин кулаку. – Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом… А ты – исчезни!». Но только вот почему-то кричит Чиклин «от скрежещущей силы сердца», наверное, внутри сам протестуя против отнятого у него права мыслить и самостоятельно принимать решения.
К молотобойцу как к «самому угнетенному батраку» проникаются сочувствием и Настя («Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь?»), и бюрократ Пашкин («Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно скорее избавить его от угнетения»). Вот только если девочка видит в медведе, прежде всего, существо страдающее и поэтому ощущает родство с ним, то представитель власти вместо благого желания «обнаружить здесь остаточного батрака и, снабдив его лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы», спешно и в недоумении «отбыл на машине обратно», формально не видя возможности отнести медведя к угнетенному классу. Автор объективно изображает положение бедняков в деревне, вынужденных почти даром работать на зажиточных односельчан. Через образ медведя показано, как относились к таким, как он: «Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером – что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сне». Однако ничто не может служить оправданием той жестокости, с которой происходило раскулачивание: «…медведь поднялся с посуды, обнял поудобней тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса – от злобы и наслышки молотобоец мог почти не разговаривать».
Страшно, что на подобной ненависти воспитывались дети, которые должны были потом жить в стране, свободной от вражды. Однако заложенные с детства представления о своих и чужих вряд ли исчезнут во взрослой жизни. Настя изначально настроена против тех, кого медведь «чутьем» относит к кулакам: «Настя задушила на руке жирную кулацкую муху… и сказала еще:
– А ты бей их как класс!»
Про мальчика из кулацкой семьи она говорит: «Он очень хитрый», – видя в нем нежелание расставаться с чем-то своим, собственным. В итоге такого воспитания все отплывающие на плоту для ребенка сливаются в одно лицо – «сволочи»: «Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там, правда ведь? – произнесла Настя. – Со сволочью нам скучно будет!» Слова же Чиклина о партии, которая должна, по идее, стоять на страже интересов трудящихся, кажутся нам ироничными: «В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую».
При анализе произведений Платонова пристальное внимание приковывает к себе их язык. Это стиль поэта, сатирика, а главным образом, философа. Повествователь чаще всего является выходцем из народа, который еще не научился оперировать научными терминами и пытается ответить на важные, насущные вопросы бытия своим языком, будто «переживая» мысли. Поэтому и возникают такие выражения, как «от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова», «без ума организованные люди жить не должны», «жил с людьми – вот и поседел от горя» и т.п. Герои Платонова мыслят теми языковыми средствами, которыми они владеют. Особая атмосфера 20-х годов ХХ века подчеркнута обилием канцеляризмов в речи платоновских героев («Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хозяйственные укромные места»), лексики лозунгов и плакатов («…Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной революции…»), идеологизмов («…указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах…»). Причем слова различных стилей беспорядочно перемешены в речи платоновских странников, зачастую ими плохо понимается значение употребляемых слов («Опорожняй батрацкое имущество! – сказал Чиклин лежачему. – Прочь с колхоза и не сметь более жить на свете!»). Складывается впечатление, что мысли, идеи словно сталкиваются между собой, притягиваясь и отталкиваясь. Так, следуя традициям русской литературы, Платонов использует пейзажи для передачи общего настроения изображаемого. Но и здесь мы ощущаем шершавость, корявость и соединение разностильных слов в описаниях: «Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче, – какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с настроениями природы…».
Финал сцены отправления кулаков на плоту неоднозначен. С одной стороны, мы проникаемся симпатией к Прушевскому, который с сочувствием смотрит на «кулацкий класс», «как оторвавшийся». Но есть доля истины и в словах Жачева, замечающего об отплывающих: «Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот чего мне жалко!» Обратим внимание на местоимение «нам». Жачев и себя причисляет к «уставшим предрассудкам». Все свои надежды он возлагает на будущие поколения: «Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок». Однако, как мы убеждаемся, взгляд автора на будущее Насти достаточно пессимистичен. Даже детское счастье невозможно построить на чьих-либо страданиях.
Трагическое и комическое в повести А. ПлатоноваПовесть А. Платонова “Котлован” написана в непростые для Советской страны годы (1929-1930), оставшиеся в памяти многих как время окончательного разорения крестьянства и формирования колхозов, переиначивших не только жизнь, но и сознание людей. Эти и многие другие сопутствующие процессы (вечные поиски правды, попытка построить счастливое будущее и т. д.) отражены в повести с помощью монолитного сплава комической формы и трагического по сути содержания.Юмор Платонова мне кажется чем-то родственным юмору Булгакова: это не просто “смех сквозь слезы”, а смех от понимания того, что так не должно быть, как оно есть, - своеобразный “черный юмор”. Действительность периода коллективизации была настолько нелепой, что, кажется, грустное и смешное поменялись местами. И поэтому нам становится не по себе, когда мы смеемся над деревенским мужиком, отдавшим лошадь в колхоз и лежащим после этого с привязанным к животу самоваром: “Улететь боюсь, клади… какой-нибудь груз на рубашку”. Не только улыбку, но и щемящую тоску вызывает негодующий возглас маленькой девочки Насти перед похоронами Козлова и Сафронова: “Они все равно умерли, зачем им гробы!” Действительно, зачем мертвым гробы, если теперь в них так хорошо спится живым строителям “светлого будущего” и если там так уютно чувствуют себя детские игрушки?!Гротескные ситуации, созданные автором (или самим временем?), удивительно сочетают в себе реальное и фантастическое, живой юмор и горький сарказм. Люди строят непонятный, никому в действительности не нужныйдом счастья, а дело продвигается не дальше рытья всеобщей братской могилы - котлована для фундамента, потому что в той нищете, голоде и холоде, которые окружают людей в настоящем, выживают немногие. Забавен и страшен одновременно эпизод с мужиком, который “на всякий случай” приготовился умереть: он уже несколько недель лежит в гробу и периодически самостоятельно подливает масло в горящую лампаду. Создается впечатление, что мертвые и живые, неодушевленное и наделенное сознанием поменялись местами. Что уж тут говорить, если главный и уважаемый враг кулаков и друг пролетариев - медведь Медведев, молотобоец из кузни. Чутье никогда не подводит зверя, работающего на “счастливое будущее” наравне с людьми, и он всегда верно находит “кулацкий элемент”.Еще один неисчерпаемый источник юмора и сарказма Платонова - речь персонажей повести, в полной мере отобразившая очередную область перегибов и бессмыслицы этого несуразного времени. Пародийное переосмысление и ироническое обыгрывание политического языка насыщает речь героев клишированными фразами, категорическими ярлыками, делает ее похожей на причудливое соединение лозунгов. Такой язык - тоже неживой, искусственный, но и он вызывает улыбку: “с телег пропагандировалось молоко”, “вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза…” Страшно же то, что даже язык маленькой Насти уже оказывается чудовищным сплавом речей и лозунгов, которые она слышит от вездесущих активистов и пропагандистов: “Главный - Ленин, а второй - Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!”Таким образом, переплетение комического и трагического в повести А. Платонова “Котлован” позволило писателю обнажить многие перекосы в социальной и экономической жизни молодой Советской страны, болезненно отозвавшиеся на жизни простого народа. А ведь давно известно: когда люди уже не имеют сил плакать - они смеются…