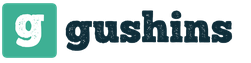Введение
Актуальность данной темы для меня, заключается в приобретении новых знаний в области публицистики, для дальнейшего использования этих знаний в профессиональной деятельности.
Цель данного исследования – изучить журналистскую деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Задачи исследования
Изучение специализированной литературы для ознакомления с биографией и журналисткой деятельностью Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова; Д.И. Писарева.
Сбор информации, анализ данных, формулировка выводов по данной теме;
Приобретение новых знаний в области журналистики.
Термин «публицистика» происходит по латинского слова «publicus», что означает «общественный». В широком смысле этого слова термином «публицистика» называют все литературные произведения, касающиеся вопросов политики и общества. В отличие от художественной литературы, освещающей эти вопросы в картинах жизни, образах людей, изображенных в художественных произведениях, публицистикой вузком смысле этого слова называют общественно-политические и научные тексты, посвященные вопросам жизни государства и общества.
Также термин публицистика в силу многозначности этого слова используется в следующих значениях:
В расширительном значении – вся журналистика;
В более узком - некоторые формы или жанры журналистики;
Следует различать понятия журналистика и публицистика . Журналистику можно определить как особый социальный институт, целостную и относительно самостоятельную систему, особую кооперацию людей, связанных единством деятельности. А публицистика – это, прежде всего, творческий процесс. Его суть состоит в постоянно развивающемся под влиянием потребностей общественной практики процессе отражения находящихся в развитии явлений жизни. Это особый поток информации, запечатлевающий социально-политические отношения в эмпирических фактах и рассуждениях, в понятиях, публицистических образах и гипотезах.
Публицистика существует как особый род литературы наряду с литературой научной и художественной, в настоящее время уже можно говорить, что она сложилась как особая форма творчества, отражения действительности, пропаганды, формирования сознания масс.
Публицистическое творчество предстает как общественно-политическая деятельность, имеющая своей задачей не только широкое информирование, идеологическое воспитание читателя, слушателя, зрителя, но и их социальную активизацию. Именно таким образом публицистика способствует оперативному регулированию социального механизма, указывает кратчайший путь для удовлетворения назревающей общественной потребности.
Публицистика – род литературной (преимущественно журналистской) общественно-политической деятельности, отражающей общественное сознание и целенаправленно влияющей на него. Её функция – оперативное, глубокое, объективное исследование общественной жизни и воздействие на аудиторию. В зависимости от жанра, назначения, литературного замысла, творческой манеры автора в публицистическом произведении используются понятийные или образные средства изложения мысли, их сочетание, средства логического и эмоционального воздействия.
1. Литературно-критическая и публицистическая деятельность н.Г. Чернышевского
Литературно-критическая деятельность Чернышевского.
В 1853 году началась литературно-критическая и публицистическая деятельность Чернышевского в журнале «Современник», ведущем органе русской революционной демократии. В 1853-1858 годах Чернышевский был основным критиком и библиографом журнала и поместил на его страницах несколько десятков статен и рецензий. К наиболее значительным работам Чернышевского-критика принадлежат историко-литературные циклы «Сочинения Л. Пушкина» (1855) и «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855-1856), определившие отношение революционно-демократической литературы и журналистики к литературному наследию 1820-1840-х годов и установившие ее историческую родословную (наиболее значимыми здесь были имена Гоголя и Белинского), а также критические анализы произведений современных писателей: Л.Н. Толстого («Детство н отрочество. Соч. графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», 1856), М.Е. Салтыкова-Щедрина («Губернские очерки Щедрина», 1857), И.С. Тургенева («Русский человек», 1858), Н.В. Успенского («Не начало ли перемены?», 1861).
Отличительной чертой литературно-критических выступлений Чернышевского было то, что па литературном материале в них но преимуществу рассматривались вопросы общественно-политического движения в России в период первой революционной ситуации. Чернышевский дал русской литературе образцы общественной, обращенной к самой жизни, публицистической критики.
Общественный темперамент Чернышевского оказался настолько сильным, что побудил его оставить занятия литературной критикой и обратиться к собственно публицистическому творчеству. В 1858 году, когда в редакции «Современника» утвердился Н.А. Добролюбов, Чернышевский передал ему критико-библиографический отдел журнала, а сам всецело отдался работе в политическом отделе «Современника».
Литературно-критические, экономические, общественно-политические выступления Чернышевского в журнале «Современник» сделали его признанным главой революционно-демократического движения в России. Между тем в судьбах этого движения наступал трагический перелом: с середины 1862 года правительство Александра И, до сих пор действовавшее под знаком хотя и половинчатой, но либерализации русской жизни, повернуло вспять. На смену эпохе освобождения и реформ шла эпоха реакции: одним из первых ее предвестий стала приостановка «Современника» на 8 месяцев в мае 1862 года. 7 июля был арестован Чернышевский. После двухлетнего заключения в Петропавловской крепости, - два года Сенат фабриковал «дело» Чернышевского, - Чернышевский узнал приговор Сенатской комиссии: «За злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения - лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет к затем поселить в Сибири навсегда». Александр II утвердил приговор, сократив наполовину срок каторги. Период с 1864 по 1872 год Чернышевский провел на каторге, затем еще 11 лет, до 1883 года, он жил в Вилюйске на поселении. В 1883 году Чернышевскому разрешено было вернуться в Россию, хотя это было не освобождение, а перемена места поселения: из Вилюйска он был переведен в Астрахань, Лишь за несколько месяцев до смерти, в 188!) году, Чернышевский смог вернуться на родину, в Саратов. Вторая половина жизни Чернышевского, 27 лет тюрем и ссылок, стала временем, в которое ОН сделался выдающимся писателем.
Беллетристические произведения Н.Г. Чернышевского органически связаны с его общественной и публицистической деятельностью.
Первый роман писателя - «Что делать?» - был создан в одиночной камере Алексеевского равелина, куда Чернышевского поместили после ареста. Удивляют сроки, понадобившиеся для завершения произведения: всего четыре месяца. Роман начат 4 декабря 1802 года, окончен 14 апреля 1863 года. Чернышевский торопился, ему необходимо было обнародовать снос творение, Роман пес в себе комплекс идей, знание которых писатель считал обязательным для молодых людей эпохи 60-х годов,«Вся сумма философии романа, весь смысл его фигур обнимает некую энциклопедию этических и социальных принципов, указывающих определенные правила жизни», - писал известный советский исследователь творчества Чернышевского А.П. Скафтымов «Что делать?» - произведение, имеющее и откровенно дидактическую цель. Задача Чернышевского - рассказать молодому читателю о новом человеческом типе так, чтобы обыкновенный здоровый человек мог перевоспитаться в процессе чтения. Эта учительная цель определила тип романа, его композицию, особенности построения характеров, авторскую позицию. «У меня нет ни теин художественного таланта... - говорил писатель в предисловии. - Все достоинства повести даны ей только ее истинностью». Не следует понимать слова Чернышевского об отсутствии у него художественного таланта в прямом и однозначном смысле. Это заявление автора романа не лишено иронии по поводу традиционных, романтических представлений о художественном таланте. «Серьезный» же смысл этого высказывания состоит в том, что автор отмечает в своем беллетристическом методе нечто большее, чем традиционная художественность. Повествование, подчеркивает Чернышевский, организуется идеей, и идеей, по его мнению, истинной. Это и определяет главную ценность романа.
Автор «Что делать?» ведет прямой разговор с читателем. Непосредственный диалог автора и читателя касается самых злободневных вопросов современности. Публицистическая направленность романа обнажена и подчеркнута Чернышевским. Суть его метода в том, чтобы научить делу; романическая «отделка» нужна лишь потому, что облегчает усвоение истины.
Предлагая публике новый комплекс человеческой нравственности, Чернышевский постоянно активизирует внимание «своего» читателя прежде всего тем, что спорит с созданным им образом «проницательного читателя». «Проницательный читатель» человек, казенно мыслящий, мещанин в мировоззренческом отношении. Объясняя его недоумения, возражения, автор полемизирует со своими возможными оппонентами: роман после выхода неизбежно должен был вызвать острые несогласия. Беседы с «проницательным читателем» давали возможность Чернышевскому предугадать и отвести предполагаемые обвинения. В этих эпизодах романа автор показал себя как блестящий художник-мыслитель, исключительно умело владеющий иронией.
Чернышевский представляет понос, только зарождающееся как уже победившее. «Новые люди» запрограммированы как победители, они «обречены» на счастье. Эта особенность творческого метода писателя, проявившаяся в «Что делать?», позволяет охарактеризовать роман как роман-утопию. До Чернышевского «утопия», чаще всего, - произведение фантастического содержания. Но вместе с тем Чернышевский показывает и реальную картину мира.
П. А. Николаев
Классик русской критики
Н. Г. Чернышевский. Литературная критика. В двух томах. Том 1. М., "Художественная литература", 1981 Подготовка текста и примечания Т. А. Акимовой, Г. Н. Антоновой, А. А. Демченко, А. А. Жук, В. В. Прозорова Менее десяти лет Чернышевский интенсивно занимался литературной критикой -- с 1853 по 1861 год. Но эта его деятельность составила целую эпоху в истории русской литературно-эстетической мысли. Придя в некрасовский "Современник" в 1853 году, он вскоре возглавил критико-библиографический отдел журнала, ставший идейным центром литературных сил страны. Чернышевский был преемником Белинского, и в понимании задач критики он отталкивался от опыта своего гениального предшественника. Он писал: "Критика Белинского все более и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием". Что может быть выше подобной роли критики -- влиять на художественное творчество, которое могло бы "управлять" действительностью? Этот "руководительный пример" Белинского был основополагающим для Чернышевского-критика. Время литературно-критической деятельности Чернышевского -- это годы назревания социально-экономических перемен в русской жизни, когда вековечная крестьянская проблема в России со всей силой потребовала своего решения. Самые различные общественные силы -- реакционно-монархические, либеральные и революционные -- пытались участвовать в этом решении. Их социальный и идейный антагонизм со всей очевидностью обнаружился после крестьянской реформы, объявленной самодержавием в 1861 году. Как известно, возникшая к 1859 году в стране революционная ситуация не переросла в революцию, но именно о коренном революционном преобразовании русской жизни думали лучшие люди той эпохи. И первый среди них -- Чернышевский. Он поплатился заключением в крепости и долгими годами ссылки за свою революционно-политическую деятельность, и эта трагическая судьба не была для него неожиданной. Он предвидел ее еще в свои молодые годы. Кому не памятен его разговор в Саратове с будущей женой: "У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость... У нас будет скоро бунт... я буду непременно участвовать в нем". Эти слова Чернышевский записал в 1853 году, в этом же году он приступил к литературной работе в петербургских журналах (сначала в "Отечественных записках", а затем в "Современнике"). С февральского номера "Современника" за 1854 год, где Чернышевский опубликовал статью о романе и повестях М. Авдеева, его критические выступления в этом журнале стали регулярными. В том же году последовала публикация статей о романе Е. Тур "Три поры жизни" и комедии Островского "Бедность не порок". Тогда же была опубликована статья "Об искренности в критике". Революционное сознание молодого литератора не могло выразиться в его первых критических статьях. Но и в этих его выступлениях анализ конкретных художественных произведений подчинен решению больших общественно-литературных задач. По своему объективному смыслу требования, которые предъявлял молодой критик к литературе, имели серьезное значение для ее дальнейшего развития. Первые критические выступления Чернышевского совпали с работой над знаменитым трактатом "Эстетические отношения искусства к действительности". Если бы Чернышевский ни разу не оценил конкретные явления текущего литературного процесса, он все равно оказал бы этой диссертацией огромное влияние на литературно-критическую мысль. "Эстетические отношения..." составили теоретическую, философскую основу самой критики. Помимо принципиально важной для литературной критики формулы "прекрасное есть жизнь", в диссертации есть замечательное определение задач искусства. Их три: воспроизведение, объяснение, приговор. При терминологической щепетильности можно заметить известную механистичность подобной классификации художественных целей: ведь в самом воспроизведении уже заключен объясняющий момент. Это понимал и сам Чернышевский. Но ему было важно охарактеризовать творчески преобразующий процесс художественного сознания мира. Теоретик искусства подчеркивал словом "приговор" активное авторское отношение к воспроизводимому реальному объекту. В целом же диссертация своим последовательно материалистическим пафосом, глубоким философским обоснованием приоритета жизни перед искусством, определением общественного характера художественного творчества ("общеинтересное в жизни -- вот содержание искусства") явилась замечательным манифестом русского реализма. Она сыграла поистине историческую роль в развитии русской теоретико-эстетической и критической мысли. Эта роль станет особенно понятной, если вспомнить общественные условия, когда Чернышевский писал диссертацию и публиковал первые критические статьи. 1853--1854 годы -- конец "мрачного семилетия" (по терминологии той поры), политической реакции, наступившей в России после 1848 года, года революционных событий во многих странах Европы. Она тяжело сказалась на литературной жизни России, напугала значительную часть литературной интеллигенции, даже ту, которая совсем недавно приветствовала статьи Белинского и говорила о любви к "неистовому Виссариону". Теперь имя Белинского нельзя было и упоминать в печати. Сатирическое изображение действительности, расцветшее в литературе 40-х годов под влиянием Гоголя, горячо приветствовавшееся и осмыслявшееся Белинским, теперь вызывало другую реакцию. Господствующая эстетическая критика выступала против писателей, отзывавшихся на злобу дня. В течение шести лет -- с 1848 по 1854 год -- Дружинин печатал в "Современнике" свои "Письма иногороднего подписчика о русской журналистике", внешне напоминавшие годовые литературные обзоры Белинского, но по сути отрицавшие эстетику великого революционного мыслителя, ибо в "Письмах" звучал лейтмотивом тезис: "Мир поэзии отрешен от прозы мира". Многие критики этой ориентации пытались убедить читателя в том, что пушкинское творчество и есть такой "мир поэзии". Это утверждал, например, Анненков, сделавший немало для пропаганды пушкинского наследия и прекрасно издавший собрание сочинений великого поэта. "Против того сатирического направления, к которому нас привело неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием",-- писал Дружинин. Теперь, естественно, кажется странным противопоставление двух родоначальников русского реализма, тогда же оно определяло существенные стороны литературно-журнальной жизни. Искусственное противопоставление пушкинского и гоголевского направлений не встретило возражений со стороны Чернышевского, и он выступил ярым защитником гоголевского сатирического направления в литературе. Эту линию он проводил неуклонно, начиная с первой своей статьи о романе и повестях Авдеева. С точки зрения Чернышевского, художественная ценность произведений Авдеева невысока, так как они "не приходятся по мерке нашего века", то есть "не приходятся" по высокой "мерке" русской реалистической литературы. В дебюте Авдеева -- первых частях романа "Тамарин" -- уже было заметно явное подражание "Герою нашего времени". А в целом роман выглядит копией с "Евгения Онегина" и с "Полиньки Сакс" Дружинина. Есть у писателя и повести, напоминающие "Письма русского путешественника" Карамзина. Эпигонство и свойственные Авдееву идилличность и сентиментальность (например, в повести "Ясные дни") приводят писателя к нарушению жизненной правды, к отступлению от реализма. Каких-нибудь, говоря словами Чернышевского, "осовевших под розовыми красками коршунов и сорок" Авдеев непременно хочет представить невинными голубями. Авдееву не хватает понимания того, каковы "понятия о жизни истинно современных людей", и творческий успех возможен для писателя только в том случае, "если убедится, что мысль и содержание даются не безотчетною сантиментальностью, а мышлением". Подобная суровая характеристика принципиально отличалась от оценок романа Авдеева со стороны "эстетической" критики и, по сути, была направлена против последней. В 1852 году Дудышкин в "Отечественных записках" очень одобрительно писал о "Тамарине" Авдеева и особенно об одном из персонажей романа. И хотя в этой ранней критической работе Чернышевский еще не выделяет гоголевскую традицию как особую и самую плодотворную, в контексте статьи предостережение против идиллического повествования ("розового колорита") у Авдеева, антигоголевского по своей природе, выступает прежде всего как стремление ориентировать писателя на трезвую и беспощадную правду автора "Ревизора" и "Мертвых душ". Такова же основная литературно-эстетическая идея статьи Чернышевского о романе Евгении Тур "Три поры жизни". Более резко, чем в статье об Авдееве, высказывается критик здесь об эстетических последствиях бессодержательного сочинительства. Повествовательная манера в романе отличается странной экзальтированностью, аффектацией, и потому в нем нет "ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий". Отсутствие глубокой мысли в романе оборачивается не реалистичностью стиля, а, по существу, антихудожественностью. Этот суровый отзыв Чернышевского оказался пророческим, точно определив цену литературной деятельности Е. Тур в будущем: известно, что ее повести "Старушка" и "На рубеже", опубликованные в 1856--1857 годах, встретили почти всеобщее неодобрение, и писательница отказалась от художественного творчества. Очень сурово отнесся Чернышевский и к пьесе Островского "Бедность не порок". Критик был согласен с общей очень высокой оценкой комедии Островского "Свои люди -- сочтемся", появившейся в 1850 году. Но пьесу "Бедность не порок" он воспринял как свидетельство падения таланта драматурга. Слабость пьесы он увидел в "апотеозе старинного быта", "приторном прикрашиванье того, что не может и не должно быть прикрашиваемо". Опасаясь возможных упреков в идеологической пристрастности своего анализа, критик заявляет, что он говорит не о намерении автора пьесы, а об исполнении, то есть о художественных достоинствах, которые в данном случае невелики: автор написал "не художественное целое, а что-то сшитое из разных лоскутков на живую нитку". Критик видит в комедии "ряд несвязных и ненужных эпизодов, монологов и повествований", хотя само намерение представить в пьесе всякого рода святочные вечера с загадками и переодеваниями не вызывает его возражений. Речь идет об одних композиционных просчетах в пьесе, но внимательному читателю ясно, что ненужные сцены и монологи -- от стремления драматурга с их помощью идеализировать определенные стороны жизни, идеализировать патриархальный купеческий быт, где якобы царят всепрощение и высокая нравственность. Идеализация была в некотором смысле программной для Островского, о чем говорят его критические выступления (в том числе, кстати, о Е. Тур.) в журнале "Москвитянин" незадолго (в 1850--1851 гг.) до создания "Бедности не порок". В целом же славянофильское направление в критике и литературе противостояло "натуральной", гоголевской школе, далекой от какой бы то ни было идеализации действительности. Отсюда -- полное сочувствие "эстетической" критики (Дружинин, Дудышкин) славянофильской тенденции у Островского. Последнее обстоятельство объясняет резкое неприятие пьесы Островского со стороны Чернышевского, тем самым объективно защищавшего гоголевскую школу. Другая причина гораздо более резкого отзыва об этой пьесе по сравнению со статьей об Авдееве сформулирована в статье "Об искренности в критике". "Каждый согласится,-- пишет Чернышевский,-- что справедливость и польза литературы выше личных ощущений писателя. А жар нападения должен быть соразмерен степени вреда для вкуса публики, степени опасности, силе влияния, на которые вы нападаете",-- а влияние Островского на публику несравненно выше влияния Авдеева и Евг. Тур. В конце статьи критик высказался оптимистически относительно такого "прекрасного дарования", как Островский. Известно, что дальнейший творческий путь драматурга подтвердил надежды Чернышевского (уже в 1857 г. он будет приветствовать пьесу "Доходное место"). Критическое выступление Чернышевского в один из переломных моментов несомненно сыграло положительную роль в развитии драматургического искусства Островского. Но литературно-критическая позиция молодого Чернышевского имела некоторую теоретическую слабость, породившую известную необъективность в конкретной характеристике им "Бедности не порок". Слабость эта -- философско-эстетическая, и связана она с трактовкой Чернышевским художественного образа. В своей диссертации он недооценил обобщающую природу художественного образа. "Образ в поэтическом произведении...-- это не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность",-- писал он. Это одно из последствий не вполне диалектической постановки вопроса в диссертации о том, что выше: действительность или искусство. Указанная концепция побуждала Чернышевского подчас видеть в художественном образе простое воплощение авторской идеи -- на самом же деле образ шире ее, и чем крупнее писатель, тем значительнее обобщающая функция художественного образа. Осознание этого придет к Чернышевскому позднее, а пока он не смог увидеть того, что в пьесе выдающегося драматурга содержание образов отнюдь не сводится к славянофильским или иным идеям автора и что в них заключена, как часто и бывает в большом искусстве, немалая художественная правда. В статье "Об искренности в критике" Чернышевский сказал о том, что центральный персонаж пьесы -- Любим Торцов -- реалистичен, "верен действительности", но теоретических выводов из этого наблюдения не сделал. Он не допустил возможности, что слабая и неубедительная "общая идея" пьесы могла бы быть хотя бы отчасти опровергнута в ходе всего драматургического повествования. Впоследствии, во второй половине 50-х годов, когда Чернышевский вместе с Добролюбовым будет разрабатывать принципы "реальной критики", то есть рассматривать прежде всего внутреннюю логику художественного произведения, "правду характеров", а не теоретические идеи автора, он продемонстрирует полную объективность своих критических оценок. Она была, разумеется, и в ранних критических выступлениях -- особенно в оценках творчества Авдеева и Е. Тур. Указывая же на теоретический просчет критика, не забудем, что Чернышевский отвергал "общие идеи" и отдельные мотивы в произведениях, не отвечавшие главному, критическому пафосу русской литературы, высшим выражением которого было творчество Гоголя. Однако борьба за гоголевское направление в литературе и противопоставление его пушкинскому таила в себе немалые опасности. Ведь, кажется, только один Тургенев полагал тогда, что современной литературе необходимо усваивать в одинаковой мере опыт и Пушкина и Гоголя, критики же обоих лагерей были крайне односторонни в своих оценках. Не избежал односторонности и Чернышевский, в частности, в оценке Пушкина. В обширной статье о сочинениях Пушкина, изданных Анненковым в 1855 году, Чернышевский стремится подчеркнуть богатство содержания в произведениях великого поэта. Он говорит о том, что в них "каждая страница... кипит умом". В статье "Сочинения А. С. Пушкина" можно прочитать: "Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным". Пушкин -- "отец нашей поэзии". Говоря так, Чернышевский имеет в виду прежде, всего заслуги поэта в создании национальной художественной формы, без которой дальше не могла развиваться русская литература. Благодаря Пушкину возникла такая художественность, которая, по словам Чернышевского, "составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе". В этом нуждалась и русская литература. Очевидна некоторая схематичность концепции критика, к тому же уязвимой в терминологическом отношении. Но в оценке пушкинского наследия Чернышевский очень противоречив. И дело не в том, что у него есть ошибки (повторяющие ошибки Белинского) в оценке творчества позднего Пушкина, в котором он не увидел ничего художественного. Он не солидаризировался с утверждением Дружинина о "примирительно-отрадном колорите" в поэзии Пушкина, однако и не пытался опровергнуть его. Чернышевскому казалось, что "общие воззрения" Пушкина не очень оригинальны, взяты у Карамзина и у других историков и писателей. Критик не понял глубины и богатства художественного содержания в пушкинских творениях. Тот теоретический просчет, который виден в статье о "Бедности не порок" Островского и состоит в недооценке содержания художественных типов комедии, дал себя знать и в суждениях о Пушкине. И хотя именно в статье о Пушкине Чернышевский пишет о том, что критик, анализируя художественное произведение, должен "вникнуть в сущность характеров" и что у Пушкина есть "общая психологическая верность характеров", он не попытался широко посмотреть на содержание, на "общую идею" в этих характерах. Более того, пушкинскую "верность характеров" Чернышевский интерпретировал прежде всего как свидетельство высокого творческого мастерства поэта в области формы. Принципы "реальной критики", когда содержание искусства, в том числе и "общая идея", "общие убеждения" автора выявляются в анализе всех подробностей повествования и, конечно, художественных характеров, будут осознаны Чернышевским чуть позднее. Но -- весьма скоро. И это совпадет со временем, когда борьба Чернышевского получит новые стимулы, обретет опору в текущей литературе. Заканчивалось "мрачное семилетие" в русской общественной жизни, политическая реакция временно отступала, но "эстетическая критика" по-прежнему не признавала решающего влияния гоголевского направления на современную литературу. Чернышевский же, напротив, в условиях, когда общественная борьба вступала в новую стадию, когда зрели идеи крестьянской революции, еще большие надежды возлагает на усвоение современной литературой гоголевского реализма. Он создает свой капитальный труд -- "Очерки гоголевского периода русской литературы", где пишет: "Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы -- единственной школы, которою может гордиться русская литература". Революционный демократ был уверен, что только в этом случае, придерживаясь гоголевского, сатирического направления, литература выполнит свою общественно-политическую роль, которая диктовалась ей временем. Надежды Чернышевского опирались на реальный литературный процесс той поры. В "Заметках о журналах" (1857) он с удовлетворением констатирует эволюцию Островского, вернувшегося к реализму периода комедии "Свои люди -- сочтемся". В пьесе "Доходное место" критик увидел "сильное и благородное направление" общей мысли, то есть критический пафос. Чернышевский находит в комедии много правды и благородства в нравственном содержании. Эстетическое чувство критика удовлетворено тем, что в пьесе "многие сцены ведены превосходно". Цельностью серьезного обличительного замысла и его выполнения Чернышевский объясняет крупный творческий успех драматурга. Тогда же Чернышевский выступает в поддержку Писемского против Дружинина, полагавшего, будто рассказы этого писателя производят отрадное, примирительное впечатление. В мрачном колорите рассказов "Питерщик", "Леший", "Плотничья артель" критик видит суровую жизненную правду. Он пишет большую статью "Сочинения и письма Н. В. Гоголя", посвященную шеститомному изданию 1857 года, которое подготовил П. А. Кулиш. Чернышевский говорит здесь об "образе мыслей" Гоголя, трактуя это понятие широко -- как систему взглядов писателя, выразившуюся в его художественном творчестве (в прежних статьях Чернышевского такого широкого понимания мировоззрения художника не было). Он протестует против утверждения, что "Гоголь сам не понимал смысла своих произведений,-- это нелепость, слишком очевидная". Чернышевский постоянно подчеркивает, что Гоголь отлично понимал смысл своих сатирических произведений, но, "негодуя на взяточничество и самоуправство провинциальных чиновников в своем "Ревизоре", Гоголь не предвидел, куда поведет это негодование: ему казалось, что все дело ограничивается желанием уничтожить взяточничество; связь этого явления с другими явлениями не была ему ясна". Даже в поздний период своей деятельности, когда он создал второй том "Мертвых душ" с его, по словам Чернышевского, "неуместным и неловким идеализмом", Гоголь не перестал быть сатириком. Чернышевский, с понятной горечью, как и Белинский, восприняв религиозную философию "Выбранных мест из переписки с друзьями", спрашивает: неужели Гоголь думает, "что "Переписка с друзьями" заменит Акакию Акакиевичу шинель?" Критик не отвечает утвердительно на собственный вопрос. Он считает, что, каковы бы ни были новые теоретические убеждения Гоголя, непосредственный взгляд на мир и эмоциональное чувство автора "Шинели" оставались прежними. В литературном процессе середины 50-х годов Чернышевский нашел "залоги более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий". Основанием ему послужили произведения наиболее яркого последователя Гоголя -- М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Чернышевский увидел в раннем творчестве Щедрина несколько иной тип художественного мышления, породивший новый тип реализма. Различия между творчеством Гоголя и Щедрина, помимо проблематики, объектов сатиры и иных сторон содержания,-- в степени соответствия субъективной мысли писателей объективным результатам их художественного изображения. Уже в статье о Гоголе Чернышевский заметил, что Щедрин в "Губернских очерках", в отличие от автора "Мертвых душ", отдает себе полный отчет в том, откуда возникает взяточничество, что его поддерживает и как его истребить. В специальной статье (в 1857 г.) о названном цикле очерков Щедрина Чернышевский саму их публикацию объявляет "историческим фактом русской жизни". Такая оценка предполагает как общественную, так и литературную значимость книги. Чернышевский ставит "Губернские очерки" в связь с гоголевской традицией, но стремится дать понятие об их своеобразии. Анализируя созданные Щедриным художественные характеры, он раскрывает основную идею очерков, отражающую важнейшую жизненную закономерность -- детерминизм личности, ее зависимость от общества, от обстоятельств жизни. Идею общественного детерминизма личности Чернышевский рассмотрел многоаспектно, прибегнув к широким историческим аналогиям. Тут и формы отношений между населением Индии и английскими колонизаторами, и конфликтная ситуация в Древнем Риме, когда знаменитый Цицерон обличал правителя Сицилии за злоупотребления властью,-- всюду Чернышевский находит подтверждение своей мысли: поведение людей обусловлено их положением, общественной традицией, господствовавшими законами. Для критика безусловна зависимость нравственных качеств, а уж тем более убеждений человека от объективных факторов. Все формы указанной зависимости Чернышевский прослеживает, анализируя образ подьячего-взяточника. Взяточничество свойственно не одному подьячему, а всем, кто его окружает. Можно осудить подьячего за то, что он избрал скверную службу, и даже побудить его оставить ее, но место займет другой, и сущность дела не изменится. Нет совершенно и безнадежно плохих людей -- есть скверные условия, полагает Чернышевский. "Самый закоснелый злодей,-- пишет он,-- все-таки человек, то есть существо, по натуре своей наклонное уважать и любить правду... Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер". Так Чернышевский приводит читателя к мысли о необходимости полного изменения "обстоятельств", то есть революционного преобразования жизни. В этой, по существу, публицистической статье со столь ясной общественной проблематикой Чернышевский настойчиво подчеркивает свой особый интерес к чисто "психологической стороне типов" в очерках Щедрина. Эта мысль внутренне связана с часто повторяемым Чернышевским в статьях 1856--1857 годов тезисом о "правде характеров" как главнейшем достоинстве искусства. "Правда характеров" -- это и отражение существенных сторон жизни, но это и психологическая правда, и именно ее находит критик в образах, созданных Щедриным. Подобно самим "Губернским очеркам", их интерпретация Чернышевским также становилась историческим фактом русской духовной жизни. Статья о "Губернских очерках" ярко показала, что борьба Чернышевского за реализм вступила в новый этап. Реализм в трактовке Чернышевского стал, говоря современным языком, структурным фактором в художественном произведении. Конечно, и прежде критик не признавал иллюстративной функции искусства, но только теперь -- в 1856--1857 годах -- глубоко осознал всю диалектику связей между "общей идеей" и всеми деталями произведения. Кто только не писал тогда о необходимости единства в произведении искусства верной идеи и художественности! Однако Дружинину, Дудышкину и другим представителям "эстетической" критики не хватало прочных исходных предпосылок критического анализа: осознания внутренних связей искусства с действительностью, законов реализма. Анализируя, подчас очень искусно, художественную форму -- композицию, сюжетную ситуацию, подробности тех или иных сцен,-- они не видели содержательных источников всех этих "законов красоты" в искусстве. Чернышевский же в "Заметках о журналах" за 1856 год дал свое определение художественности: она "состоит в соответствии формы с идеею; потому, чтобы рассмотреть, каковы художественные достоинства произведения, надобно как можно строже исследовать, истинна ли идея, лежащая в основании произведения. Если идея фальшива, о художественности не может быть и речи, потому что форма будет также фальшива и исполнена несообразностей. Только произведение, в котором воплощена истинная идея, бывает художественно, если форма совершенно соответствует идее. Для решения последнего вопроса надобно просмотреть, действительно ли все части и подробности произведения проистекают из основной его идеи. Как бы замысловата или красива ни была сама по себе известная подробность -- сцена, характер, эпизод,-- но если она не служит к полнейшему выражению основной идеи произведения, она вредит его художественности. Таков метод истинной критики". Эта трактовка художественности не осталась у Чернышевского лишь теоретической декларацией. По существу, все литературные явления в прошлом и настоящем как бы "проверяются" Чернышевским с ее помощью. Обратим внимание на статьи Чернышевского о двух поэтах: В. Бенедиктове и Н. Щербине. Чернышевский, подобно Белинскому, отрицательно отнесся к творчеству Бенедиктова. В его трехтомном собрании сочинений критик нашел всего три-четыре стихотворения, содержавших подобие мысли. В остальных он видел отсутствие эстетической меры и "поэтической фантазии", без которой "стихотворения г. Бенедиктова остаются холодны, картины его сбивчивы и безжизненны". У Бенедиктова скорее натуралистические, даже "физиологические" подробности, которые нравились нетребовательному читателю. Творчество когда-то подававшего серьезные надежды поэта Щербины -- еще один из вариантов противоречия между содержанием и формой. Когда поэт исчерпал содержание, "какое естественно представляется соединенным с античною манерою", его стихи потеряли и то достоинство, которое было им свойственно прежде. В статье о Щербине критик особенно настойчиво говорит; о том, что мысль поэта должна находить образную, конкретно-чувственную форму. Смысл процитированной развернутой формулы Чернышевского относительно художественности глубже всего раскрывается в его знаменитой статье о творчестве молодого Толстого (1856). Она замечательна, во многих отношениях, и ее место в истории русской литературы и критики велико. В развитии критической мысли самого Чернышевского она также занимает важное место. Статья эта в значительной степени была продиктована тактическими соображениями Чернышевского, стремившегося сохранять для "Современника" писателя, масштабы дарования которого он хорошо понимал. Этому не мешало неприязненное отношение Толстого к Чернышевскому, к его эстетике и ко всей деятельности в "Современнике", о чем писатель не раз говорил Некрасову; и что было, разумеется, известно критику. Тактический прием Чернышевского состоял в безоговорочно позитивном характере оценки произведений молодого писателя, талант которого "уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью". Еще в ранних своих статьях Чернышевский говорил об оригинальности творческого дарования как решающем достоинстве художественного таланта (он и позднее, в 1857 г., будет развивать эту тему -- например, в статьях о Писемском и Жуковском). В статье о Толстом он стремится установить индивидуальное своеобразие художника, "отличительную физиономию его таланта". Эту отличительную черту критик увидел в психологическом анализе, который у Толстого предстает как художественное исследование, а не простое описание душевной жизни. Даже крупные художники, способные уловить драматические переходы одного чувства в другое, чаще всего воспроизводят лишь начало и конец психологического процесса. Толстого же интересует самый процесс -- "едва уловимые явления... внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием". Другой отличительной чертой Толстого критик считает "чистоту нравственного чувства" в его произведениях. Эту черту высоко оценивали и другие критики: Дружинин в "Библиотека для чтения" (1856) отмечал "великолепие нравственное" в "Метели" и "Двух гусарах" Толстого, говорил он и о психологическом искусстве писателя, умеющего представить "духовное расширение человека". Но Чернышевский видит в психологизме Толстого не туманное "духовное расширение", а ясную "диалектику души", исследование которой есть универсальный толстовский ключ к познанию сложной психики. Статья о Толстом демонстрировала новый уровень понимания Чернышевским реалистического искусства. К критике Чернышевского теперь в полной мере относится позднейшая формула Добролюбова -- "реальная критика". Чернышевский пишет о "единстве произведения" у Толстого, то есть о такой композиционной организации его повестей, когда в них нет ничего постороннего, когда отдельные части произведения полностью соответствуют его основной идее. Этой идеей и оказывается психологическая история развивающейся личности. Чернышевский полемизирует с Дудышкиным, который упрекал Толстого в том, что в его произведениях нет "грандиозных событий", "женских характеров", "чувства любви" ("Отечественные записки", 1856, No 2). "Надобно же понимать,-- пишет Чернышевский,-- что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности -- единство произведения, и что потому, изображая "Детство", надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены... И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества!" Так глубоко трактует Чернышевский художественность в реалистическом искусстве. В поэтизации нравственного чувства видит Чернышевский гуманизм писателя. А гуманное содержание художественного произведения в сочетании с правдивостью изображения личности и вообще жизни составляло теперь для Чернышевского сущность и силу реалистического искусства. Статья Чернышевского о молодом Толстом точно определила те особенности таланта, которые сохранились в основе неизменными и в последующем творчестве великого писателя. "Чистота нравственного чувства" в толстовских повестях привлекла революционного мыслителя, в чьих социально-эстетических воззрениях в ту пору складывалось представление о положительном герое современности и его отражении в литературе. С усилением общественной борьбы, с резким размежеванием революционной демократии и либерализма, это общее представление наполнялось конкретным содержанием. Оно было сформулировано Чернышевским еще в статье "Стихотворения Н. Огарева" (1856): "Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства (вот она, толстовская естественность нравственного чувства!-- П. H.), не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями". Впоследствии это представление о положительном герое вылилось в образы революционеров в романах "Что делать?" и "Пролог". Утверждению нового героя в статьях Чернышевского сопутствовала дискредитация положительного героя предшествующей эпохи, "лишнего человека", а вместе с тем и дворянства, как класса, неспособного принять активное участие в преобразовании действительности. В статье 1858 года "Русский человек на rendezvous", посвященной повести Тургенева "Ася", критик доказывает социальную и психологическую несостоятельность "лишнего человека". Речь идет преимущественно о главном герое повести -- господине Н. Его пассивность, безволие, неспособность к действию -- черты, свойственные не только господину Н., но всему классу общества, его породившему. В повести Тургенева Чернышевский находил большую художественную правду. Вопреки своей идеологической позиции, писатель отразил в ней реальные процессы и требования времени. Критик пишет об эволюции "лишних людей" в русской жизни и литературе, показывает, как новые исторические потребности общественной борьбы все яснее выявляют отвлеченность исканий и протеста "лишних людей", как мельчает в своем социальном значении рефлектирующий герой. Делая из наблюдений над тургеневским персонажем широкие выводы, критик ориентирует внимательного читателя на молодые демократические силы России, от которых только и зависит будущее. Бескомпромиссно звучит приговор революционного демократа тургеневскому герою: "Все сильней и сильней развивается в нас мысль... что есть люди лучше его... что без него нам было бы лучше жить". Интерпретацию Чернышевским "Аси", естественно, не приняла критика либерального направления. В журнале "Атеней" (тогда же, в 1858 г.) П. Анненков в статье "Литературный тип слабого человека" попытался доказать, что нравственное бессилие тургеневского героя не является, как думает Чернышевский, симптомами общественной несостоятельности данного социального типа -- оно есть якобы исключение из правил. Анненкову было важно отвергнуть саму идею социально-активной личности в литературе; критик даже вознамерился убедить читателя в том, что положительным героем русской литературы всегда был и должен быть смиренный "маленький" человек. Идеологический источник такой позиции -- в резком неприятии и возможных революционных перемен, и, естественно, людей, могущих осуществить эти перемены. Надвигалась революционная ситуация, и позиция либеральной критики оказалась столь отсталой, что интерес к ней со стороны широкого читателя почти совершенно исчез. И наоборот, с 1858 по 1861 год критика Чернышевского и Добролюбова выступает в качестве мощной идейно-литературной силы. Но это продолжалось недолго. Смерть Добролюбова, наступившая политическая реакция и последовавший затем арест Чернышевского лишили литературную критику былого значения. Но в том же 1861 году Чернышевский опубликовал свою большую, и последнюю, критическую работу -- статью "Не начало ли перемены?" -- замечательный образец революционно-публицистической критики. Идеолог крестьянской революции, он не раз писал об огромной роли народа в истории, особенно в переломные, исключительные исторические моменты. Такими моментами он считал Отечественную войну 1812 года и теперь -- отмену крепостного права, которая должна была освободить скрытую энергию крестьянских масс, энергию, которую следовало направить на улучшение их собственного положения, на удовлетворение их "естественных стремлений". Опубликованные в 1861 году очерки Успенского дали критику материал для развития этой мысли. Не унижение русского мужика, не пессимизм по отношению к его духовным способностям видит Чернышевский в очерках Успенского. В образах обыкновенных крестьян, изображенных писателем, он отмечает скрытую силу, которую нужно понять, чтобы пробудить ее к действию. "Мы, по указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания, которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными, безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем простонародье... Инициатива народной деятельности не в них... но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива",-- пишет критик. Настала пора, когда надо сказать русскому мужику, что и он сам во многом повинен в своем бедственном состоянии и тяжкой жизни близких ему людей, долга перед которыми он не осознает. "Правда без всяких прикрас" о крестьянской темноте и жестокости в очерках молодого писателя интерпретирована великим критиком в революционно-демократическом духе. Гуманное изображение простого человека давно уже стала традицией в русской литературе, но для нового времени этого уже недостаточно. Даже гуманизм гоголевской "Шинели" с ее бедным чиновником Башмачкиным принадлежит лишь истории литературы. Недостаточен и гуманный пафос в послегоголевской литературе, например, в повестях Тургенева и Григоровича. Время требовало новой художественной правды, и этим требованиям ответила "правда" молодого писателя-демократа. Чернышевский считает подлинным открытием в русской литературе ту "правду без всяких прикрас", которая заключена в очерках Успенского. Эта "правда" явила собой перемены в историческом взгляде на народ. Подчеркнув своеобразие взглядов Успенского на характер мужика, Чернышевский не говорит об его очерках как о чем-то исключительном, неожиданном для русской литературы. Новаторство молодого писателя подготовлено художественной практикой многих его предшественников (еще прежде Чернышевский писал о Писемском, говорившем о темноте крестьян). Нет непроходимых границ между "правдой", изображенной Успенским, и той же "диалектикой души" у Толстого. Стоит напомнить известные слова из "Заметок о журналах": "Граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина,-- его мужик чрезвычайно верен своей натуре". "Не начало ли перемены?" -- последняя литературно-критическая работа Чернышевского. Она подытоживала его борьбу за реализм в литературе. Остросовременная, статья призывала сменить сентиментальные симпатии к русскому народу на честный, бескомпромиссный разговор с ним: "...говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ,-- любит не на словах, а в душе". Не показное, славянофильское, народолюбие "квасных патриотов", а заинтересованный и предельно откровенный разговор с мужиком -- основа подлинной народности литературы, по Чернышевскому. И здесь -- единственная надежда на ответное понимание писателей со стороны народа. Автор статьи внушает читателю, что косность крестьянского мышления не вечна. Само появление произведений, подобных очеркам Успенского,-- явление отрадное. Вопрос, звучащий в названии статьи, получил в ней утвердительный ответ. Итоговая критическая работа Чернышевского убедительно сказала о "переменах" в русской литературе, отметив новые черты ее демократизма и гуманизма. В свою очередь она повлияла на дальнейшее развитие критического реализма. 60--70-е годы дали множество художественных вариантов "правды без всяких прикрас" (В. Слепцов, Г. Успенский, А. Левитов). Повлияли статьи Чернышевского и на дальнейшее развитие критической мысли. Русская литература для Чернышевского была и высокой формой искусства, и одновременно высокой трибуной общественной мысли. Она -- объект и эстетического и социального исследования. В совокупности статьи критика представляла единство этих исследований. Широта подхода великого критика к литературе проистекала из осознания Чернышевским ее "энциклопедическим выражением всей умственной жизни нашего общества". Так думал о литературе и Белинский, но благодаря Чернышевскому подобное понимание литературы окончательно утвердилось в русской критике. Если диссертация Чернышевского еще давала иногда внешние основания для упрека ее автору в логизме, в теоретической отвлеченности, то его статьи об определенных писателях и произведениях -- замечательная форма "проверки" правильности общих положений. В этом смысле статьи Чернышевского поистине были "движущейся эстетикой", как в свое время определил критику Белинский. Внутренняя связь теоретичности и конкретности анализа станет под влиянием Чернышевского нормой в статьях лучших критиков второй половины XIX века. Критический опыт Чернышевского ориентировал русскую критику на выявление творческой оригинальности писателя. Известно, что многие его оценки своеобразия русских художников остались неизменными и по сей день. Акцент на индивидуальном своеобразии писателя требовал от Чернышевского внимания к эстетической стороне произведений. Чернышевский вслед за Белинским учил русских критиков видеть, как слабости идейного содержания губительным образом могут сказаться в художественной форме. И этот аналитический урок Чернышевского осваивался русской критической мыслью. Это -- урок литературно-критического мастерства, когда истинная идейная и эстетическая суть произведения раскрывается в единстве всех составляющих его элементов. Чернышевский учил русскую критику и тому, чтобы конкретный анализ творческой индивидуальности помогал понять место писателя и его произведений в современной духовной жизни, в освободительном движении эпохи. Литературно-эстетические воззрения Чернышевского оказали огромное воздействие на русскую литературу и критику во все последующие десятилетия XIX и XX веков. При всех философских и социологических отступлениях от исторических идей Чернышевского народническая критика, прежде всего в лпце Михайловского, учитывала его методологию исследования искусства. Ранняя марксистская мысль в России (Плеханов) прямо отталкивалась от многих философско-эстетических положений лидера революционной демократии. Ленин называл Чернышевского в числе ближайших предшественников русской социал-демократии, высоко оценивая последовательность его материалистических взглядов, его политические труды и художественные произведения. Есть историческая преемственность между эстетикой Чернышевского, признающей классовость искусства, возможность его идейно-эстетического "приговора", и учением Ленина о партийности литературы. Советская литературная наука и критика многим обязаны Чернышевскому. Решение фундаментальных философско-эстетических проблем, трактовка общественной функции искусства и литературы, совершенствование литературно-критических методов и принципов анализа художественного произведения и многое другое, что составляет сложную систему литературно-эстетических исследований,-- все это в той или иной мере осуществляется с учетом универсального опыта Чернышевского -- политика, философа, эстетика и критика. Его литературно-эстетическим идеям, его критике предназначена долгая историческая жизнь.
П ублицист и писатель, философ-материалист и ученый, революционер-демократ, теоретик критического утопического социализма, Николай Гаврилович Чернышевский был личностью выдающейся, оставившей заметный след в развитии социальной философии и литературоведения и самой литературы.
Выходец из семьи саратовского священника, Чернышевский тем не менее был хорошо образован. До 14 лет учился дома под руководством отца, начитанного и умного человека, а в 1843 году поступил в духовную семинарию.
«По своим знаниям Чернышевский был не только выше своих сверстников-соучеников, но и многих преподавателей семинарии. Время своего пребывания в семинарии Чернышевский использовал для самообразования» , - писал в своей статье советский литературовед Павел Лебедев-Полянский.
Не закончив семинарский курс, Чернышевский в 1846 году поступил на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.
Николай Гаврилович с интересом читал сочинения крупнейших философов, начиная с Аристотеля и Платона и кончая Фейербахом и Гегелем, экономистов и теоретиков искусства, а также труды естествоиспытателей. В университете Чернышевский познакомился с Михаилом Илларионовичем Михайловым. Именно он свел молодого студента с представителями кружка петрашевцев. Членом этого кружка Чернышевский не стал, однако нередко бывал на других собраниях - в обществе отца русского нигилизма Иринарха Введенского. После ареста петрашевцев Николай Чернышевский записал в своем дневнике, что посетители кружка Введенского «о возможности восстания, которое бы освободило их, и не думают».
Окончив университетский курс в 1850 году, молодой кандидат наук получил распределение в Саратовскую гимназию. Свою должность новый учитель использовал в том числе для пропаганды революционных идей, за что прослыл вольнодумцем и вольтерьянцем.
«У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость бог знает на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою, - я такие вещи говорю в классе».
Николай Чернышевский
После женитьбы Чернышевский вернулся в Санкт-Петербург и был определен учителем во второй кадетский корпус, но его пребывание там, несмотря на все педагогические заслуги, оказалось недолгим. Николай Чернышевский ушел в отставку после конфликта с офицером.
Первые литературные произведения будущий автор романа «Что делать?» начал писать в конце 1840-х. Переехав в 1853 году в Cеверную столицу, Чернышевский публиковал небольшие статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Отечественных записках». Через год, окончательно покончив с карьерой учителя, Чернышевский пришел в «Современник» и уже в 1855-м стал фактически руководить журналом наряду с Некрасовым. Николай Чернышевский был одним из идеологов превращения журнала в трибуну революционной демократии, что отвернуло от «Современника» ряд авторов, среди которых были Тургенев , Толстой и Григорович. При этом Чернышевский всячески поддерживал Добролюбова , которого в 1856-м привлек в журнал и передал ему руководство отделом критики. С Добролюбовым Чернышевского связывала не только общая работа в «Современнике», но и схожесть ряда социальных концепций, один из самых ярких примеров - педагогические идеи обоих философов.
Продолжая активную работу в «Современнике», в 1858 году литератор стал первым редактором журнала «Военный сборник» и привлек в революционные кружки некоторых русских офицеров.
В 1860-м в свет выходит главный философский труд Чернышевского «Антропологический примат в философии», а год спустя, после оглашения Манифеста об отмене крепостного права, автор выступает с целым рядом статей, критикующих реформу. Формально не являясь членом кружка «Земля и воля», Чернышевский тем не менее стал его идейным вдохновителем и попал под тайный надзор полиции.
В мае 1862 года «Современник» закрыли на восемь месяцев «за вредное направление», а в июне под арест попал сам Николай Чернышевский. Положение литератора ухудшило письмо Герцена к революционеру и публицисту Николаю Серно-Соловьевичу, в котором первый заявлял о своей готовности издавать журнал за границей. Чернышевского обвинили в связях с революционной эмиграцией и заключили в Петропавловскую крепость.
Следствие по делу «врага Российской империи номер один» продолжалось около полутора лет. За это время был написан роман «Что делать?» (1862–1863), опубликованный во вновь открывшемся после перерыва «Современнике», неоконченный роман «Повести в повести» и несколько повестей.
В феврале 1864 года Чернышевский был приговорен к каторжным работам сроком на 14 лет без права возвращения из Сибири. И хотя император Александр II сократил каторгу до семи лет, в целом критик и литературовед пробыл в тюрьме более двух десятилетий.
В начале 80-х годов XIX века Чернышевский вернулся в центральную часть России - город Астрахань, а в конце десятилетия, благодаря стараниям сына, Михаила переехал на родину в Саратов. Однако через несколько месяцев после возвращения писатель заболел малярией. Умер Николай Гаврилович Чернышевский 29 октября 1889 года, похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище.
В советской биографической литературе Н.Г.Чернышевский, наряду с Н.А. Добролюбовым, прославлялся как талантливый критик, философ, смелый публицист, «революционный демократ» и борец за светлое социалистическое будущее российского народа. Нынешние критики, выполняя тяжёлую работу над уже совершёнными историческими ошибками, подчас впадают в иную крайность. Полностью ниспровергая прежние положительные оценки многих событий и идей, отрицая вклад той или иной личности в развитие отечественной культуры, они лишь предвосхищают ошибки будущие и готовят почву для очередного ниспровержения вновь сотворённых кумиров.
Тем не менее, хотелось бы верить, что в отношении Н.Г. Чернышевского и ему подобных «раздувателей мирового пожара», история уже сказала своё окончательное веское слово.
Именно идеи революционеров-утопистов, которые во многом идеализировали сам процесс перемены государственного устройства, призывая ко всеобщему равенству и братству, уже в 50-е годы XIX века заронили в русскую почву зёрна раздора и последующего насилия. К началу 1880-х годов, с преступного попустительства государства и общества, они дали свои кровавые всходы, значительно проросли к 1905 году и бурно заколосились уже после 1917-го, едва не утопив одну шестую часть суши в волне жесточайшей братоубийственной войны.
Человеческая природа такова, что порой целые народы склонны долго хранить память об уже свершившихся национальных катастрофах, переживать и оценивать их гибельные последствия, но не всегда и не всем удаётся припомнить, с чего же всё началось? Что послужило причиной, началом? Что стало «первым маленьким камушком», скатившимся с горы и повлекшим за собой разрушительную, беспощадную лавину?.. Сегодняшний школьник в обязательном порядке «проходит» произведения ранее запрещённого М.Булгакова, зазубривает наизусть стихи Гумилёва и Пастернака, перечисляет на уроках истории имена героев Белого Движения, но вряд ли он сможет ответить что-то вразумительное о нынешних «антигероях» - Лаврове, Нечаеве, Мартове, Плеханове, Некрасове, Добролюбове или том же Чернышевском. Сегодня Н.Г.Чернышевский внесён во все «чёрные списки» имён, которым не место на карте нашей родины. Его произведения не переиздаются с советских времён, ибо это – самая невостребованная литература в библиотеках, и самые невостребованные тексты на Интернет-ресурсах. Подобная «избирательность» в формировании картины мира у подрастающего поколения, к сожалению, с каждым годом делает наше давнее и недавнее прошлое всё более и более непредсказуемым. Так не будем её усугублять…
Биография Н.Г.Чернышевского
Ранние годы
Н.Г.Чернышевский родился в Саратове в семье священника и, как от него и ожидали родители, три года (1842–1845) учился в духовной семинарии. Однако для молодого человека, как и для многих других его ровесников, выходцев из духовной среды, семинарское образование не стало дорогой к Богу и церкви. Скорее наоборот, как и многие тогдашние семинаристы, Чернышевский не захотел принимать внушавшуюся ему учителями доктрину официального православия. Он отказался не только от религии, но и от признания существовавших в России порядков в целом.
С 1846 по 1850-е годы Чернышевский учился на историко-филологическом отделении Петербургского университета. В этот период сложился тот круг интересов, который впоследствии определит основные темы его творчества. Кроме русской литературы, молодой человек штудировал знаменитых французских историков – Ф.Гизо и Ж.Мишле – ученых, совершивших переворот в исторической науке XIX столетия. Одними из первых они взглянули на исторический процесс не как на результат деятельности исключительно великих людей – королей, политиков, военных. Французская историческая школа середины XIX века поставила в центре своих исследований народные массы – взгляд, безусловно, уже в то время близкий Чернышевскому и многим его единомышленникам. Не менее существенной для формирования взглядов молодого поколения русских людей стала и западная философия. Мировоззрение Чернышевского, сложившееся в основном в студенческие годы, формировалось под влиянием работ классиков немецкой философии, английской политической экономии, французского утопического социализма (Г. Гегель, Л. Фейербах, Ш. Фурье), сочинений В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Из литераторов он давал высокую оценку произведениям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, но лучшим современным поэтом, как ни странно, считал Н.А. Некрасова. (Может быть потому, что другой рифмованной публицистики пока ещё не было?..)
В университете Чернышевский стал убежденным фурьеристом. Он всю жизнь оставался верен этой наиболее мечтательной из доктрин социализма, пытаясь увязать её с политическими процессами, происходившими в России в эпоху реформ Александра II.
В 1850 году Чернышевский успешно окончил курс кандидатом и уехал в Саратов, где сразу получил место старшего учителя гимназии. Судя по всему, он уже в это время больше мечтал о грядущей революции, чем занимался обучением своих учеников. Во всяком случае, молодой преподаватель явно не скрывал от гимназистов своих бунтарских настроений, что неизбежно вызвало недовольство начальства.
В 1853 году Чернышевский женился на Ольге Сократовне Васильевой, женщине, впоследствии вызывавшей у друзей и знакомых её мужа самые противоречивые чувства. Одни считали её необыкновенной личностью, достойной подругой и вдохновительницей писателя. Другие резко осуждали за легкомыслие и пренебрежение к интересам и творчеству мужа. Как бы то ни было, сам Чернышевский не только сильно любил свою молодую жену, но и считал их брак своеобразным «полигоном» для испытания новых идей. По его мнению, новую, свободную жизнь необходимо было приближать и готовить. Прежде всего, конечно же, следовало стремиться к революции, но приветствовалось также и освобождение от любых форм рабства и угнетения – в том числе и семейного. Именно поэтому писатель проповедовал абсолютное равенство супругов в браке – идея для того времени поистине революционная. Мало того, он считал, что женщинам, как одной из наиболее угнетённых групп тогдашнего общества, следовало для достижения настоящего равенства предоставить максимальную свободу. Именно так и поступил Николай Гаврилович в своей семейной жизни, разрешая своей жене всё, вплоть до супружеских измен, считая, что он не может рассматривать супругу, как свою собственность. Позже личный опыт писателя, безусловно, отразился в любовной линии романа «Что делать?». В западной литературе он долгое время фигурировал под наименованием «русский треугольник» - одна женщина и двое мужчин.
Женился Н.Г.Чернышевский, вопреки воле родителей, даже не выдержав перед венчанием срока траура по недавно скончавшейся матери. Отец надеялся, что сын на какое-то время останется с ним, но в молодой семье всё было подчинено только воле Ольги Сократовны. По её настойчивому требованию Чернышевские спешно переезжают из провинциального Саратова в Петербург. Этот переезд был, скорее, похож на бегство: бегство от родителей, от семьи, от житейских сплетен и предрассудков к новой жизни. В Петербурге началась карьера Чернышевского как публициста. Сначала, правда, будущий революционер пытался скромно трудиться на государственной службе – занимал место преподавателя русского языка во Втором кадетском корпусе, но продержался не более года. Увлечённый своими идеями, Чернышевский, очевидно, не был слишком требователен и усерден в деле воспитания военной молодёжи. Предоставленные сами себе, его подопечные почти ничего не делали, что вызвало конфликт с офицерами-воспитателями, и Чернышевский вынужден был оставить службу.
Эстетические воззрения Чернышевского
Литературная деятельность Чернышевского началась в 1853 году небольшими статьями в «Санкт-Петербургских Ведомостях» и в «Отечественных Записках». Вскоре он познакомился с Н.А. Некрасовым, и в начале 1854 года перешёл на постоянную работу в журнал «Современник». В 1855 - 1862 годах Чернышевский являлся одним из его руководителей наряду с Н.А. Некрасовым и Н.А. Добролюбовым. В первые годы своей работы в журнале Чернышевский сконцентрировался в основном на литературных проблемах – политическая ситуация в России в середине пятидесятых годов не давала возможности для высказывания революционных идей.
В 1855 году Чернышевский держал экзамен на магистра, представив в качестве диссертации рассуждение «Эстетические отношения искусства к действительности», где отказался от поисков прекрасного в отвлечённых возвышенных сферах «чистого искусства», сформулировав свой тезис – «прекрасное – есть жизнь». Искусство, по мнению Чернышевского, не должно упиваться само собой – будь то прекрасные фразы или тонко нанесенные на холст краски. Описание горькой жизни бедного крестьянина может быть куда прекраснее чудесных любовных стихов, так как оно принесёт пользу людям…
Диссертация была принята и допущена к защите, но степень магистра Чернышевскому не дали. В середине XIX века, очевидно, были иные требования к диссертационным работам, чем сейчас, только научная деятельность, пусть даже и гуманитарная, всегда предполагает исследование и апробацию (в данном случае – доказательство) его результатов. Ни первого, ни второго в диссертации филолога Чернышевского нет и в помине. Отвлечённые рассуждения соискателя о материалистической эстетике и пересмотре философских принципов подхода к оценке «прекрасного» в учёной среде были восприняты как полный бред. Университетские чиновники и вовсе расценили их как революционное выступление. Однако диссертация Чернышевского, отвергнутая его коллегами-филологами, нашла широкий отклик в среде либерально-демократической интеллигенции. Те же университетские профессора - умеренные либералы - обстоятельно критиковали в журналах сугубо материалистический подход к проблеме понимания целей и задач современного искусства. И это было ошибкой! Если бы рассуждения о «пользе описания горькой жизни народа» и призывы сделать её лучше были полностью проигнорированы «специалистами», вряд ли они вызвали бы столь бурные дискуссии в художественной среде второй половины XIX века. Возможно, русская литература, живопись, музыкальное искусство избежали бы впоследствии засилья «свинцовых мерзостей» и «стонов народных», а вся история страны пошла по иному пути… Тем не менее, через три с половиной года диссертация Чернышевского была утверждена. В советское время она стала едва ли не катехизисом всех приверженцев соцреализма в искусстве.
Мысли об отношении искусства к действительности Чернышевский развил также в опубликованных в «Современнике» в 1855 году «Очерках гоголевского периода русской литературы». Автор «Очерков» прекрасно владел русским литературным языком, который и сегодня выглядит современно и легко воспринимается читателем. Его критические статьи написаны живо, полемично, интересно. Они были с восторгом встречены либерально-демократической публикой и писательским сообществом тех дней. Проанализировав наиболее выдающиеся литературные произведения предыдущих десятилетий (Пушкина, Лермонтова, Гоголя), Чернышевский рассматривал их через призму собственных представлений об искусстве. Если основной задачей литературы, как и искусства вообще, является правдивое отражение действительности (по методу певца-акына: «что вижу – то и пою»), то лишь те произведения, в которых в полной мере отражена «правда жизни», могут быть признаны «хорошими». А те, в которых этой «правды» недостаёт – рассматриваются Чернышевским как измышления эстетствующих идеалистов, никакого отношения к литературе не имеющие. За образец ясного и «объективного» изображения общественных язв Чернышевским взято творчество Н.В. Гоголя – одного из самых мистических и по сей день неразгаданных русских писателей XIX века. Именно Чернышевский, вслед за Белинским, навесил на него и других, совершенно непонятых демократической критикой авторов, ярлыки «суровых реалистов» и «обличителей» пороков российской действительности. В узких рамках этих представлений творчество Гоголя, Островского, Гончарова долгие годы рассматривалось отечественными литературоведами, а затем вошло и во все школьные учебники по русской литературе.
Но как впоследствии замечал В.Набоков – один из самых внимательных и чутких критиков наследия Чернышевского – сам автор никогда не был «реалистом» в прямом смысле этого слова. Идеальная природа его мироощущения, склонная к созданию разного рода утопий, постоянно нуждалась в том, чтобы Чернышевский заставлял себя искать прекрасного не в собственном воображении, а в реальной жизни.
Определение понятия «прекрасное» в его диссертации полностью звучит так: «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни».
Каковою же именно должна быть эта «реальная жизнь» мечтатель Чернышевский, возможно, и сам не имел никакого понятия. Гоняясь за призрачной «реальностью», которая казалась ему идеалом, он не призывал современников, а уговаривал, прежде всего, самого себя вернуться из воображаемого мира, где ему было гораздо комфортнее и интересней, в мир других людей. Сделать это, скорее всего, Чернышевскому не удалось. Отсюда – и его «революция» как идеальная самоцель, и утопические «сны» о справедливом обществе и всеобщем счастье, и принципиальная невозможность продуктивного диалога с реально мыслящими людьми.
«Современник» (конец 1850-х - начало 60-х)
Между тем, политическая обстановка в стране в конце 1850-х годов принципиально изменилась. Новый государь, Александр II, вступив на престол, ясно понимал, что Россия нуждается в реформах. С первых лет своего правления он начал подготовку отмены крепостного права. Страна жила в ожидании перемен. Несмотря на сохранение цензуры, либерализация всех сторон жизни общества в полной мере коснулась средств массовой информации, вызвав появление новых периодических изданий самого разного толка.
 |
Редакция «Современника», лидерами которой были Чернышевский, Добролюбов и Некрасов, конечно же, не могла остаться в стороне от происходивших в стране событий. В конце 50-х – начале 60-х годов Чернышевский очень много печатался, пользуясь любым поводом для того, чтобы открыто или завуалированно высказывать свои «революционные» взгляды. В 1858-1862 годах на первое место в «Современнике» выдвинулись публицистический (Чернышевский) и литературно-критический (Добролюбов) отделы. Литературно-художественный отдел, несмотря на то, что в нем печатались Салтыков-Щедрин, Н. Успенский, Помяловский, Слепцов и другие известные авторы, отошёл в эти годы на второй план. Постепенно «Современник» стал органом представителей революционной демократии и идеологов крестьянской революции. Авторы-дворяне (Тургенев, Л.Толстой, Григорович) почувствовали себя здесь неуютно и навсегда отошли от деятельности редакции. Идейным руководителем и самым печатаемым автором «Современника» стал именно Чернышевский. Его острые, полемичные статьи привлекали читателей, поддерживая конкурентноспособность издания в изменившихся условиях рынка. «Современник» в эти годы приобрёл авторитет главного органа революционной демократии, значительно расширил свою аудиторию, и тираж его непрерывно рос, принося редакции немалые прибыли.
Современными исследователями признаётся, что деятельность возглавляемого Чернышевским, Некрасовым и Добролюбовым «Современника» оказала определяющее влияние на формирование литературных вкусов и общественного мнения 1860-х годов. Она породила целое поколение так называемых «нигилистов-шестидесятников», нашедшее весьма карикатурное отражение в произведениях классиков русской литературы: И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, Л.Н. Толстого.
В отличие от либеральных мыслителей конца 1850-х годов, революционер Чернышевский считал, что крестьяне должны получить свободу и наделы без всякого выкупа, так как власть помещиков над ними и их владение землёй не справедливы по определению. Мало того, крестьянская реформа должна была стать первым шагом на пути к совершению революции, после которой частная собственность вообще исчезнет, а люди, оценив прелесть совместного труда, будут жить, объединившись в свободные ассоциации, основанные на всеобщем равенстве.
Чернышевский, как и многие другие его единомышленники, не сомневался, что крестьяне в конце концов разделят их социалистические идеи. Доказательством этого они считали приверженность крестьян «миру», общине, решавшей все основные вопросы деревенской жизни, и формально считавшейся владелицей всей крестьянской земли. Общинники, по мнению революционеров, должны были пойти за ними к новой жизни, несмотря на то, что для достижения идеала, конечно же, надо было совершить вооружённый переворот.
При этом ни самого Чернышевского, ни его радикально настроенных сторонников совершенно не смущали «побочные» явления, которыми, как правило, сопровождается любой переворот или передел собственности. Общий упадок народного хозяйства, голод, насилие, казни, убийства и даже возможная гражданская война уже тогда предвиделись идеологами революционного движения, но великая цель для них всегда оправдывала средства.
Открыто обсуждать подобные вещи на страницах «Современника», даже в либеральной обстановке конца 50-х годов, было невозможно. Поэтому Чернышевский в своих статьях использовал множество хитроумных способов для того, чтобы обмануть цензуру. Практически любую тему, за которую он брался, – будь то литературная рецензия или разбор исторического исследования о Великой Французской революции, или же статья о положении рабов в США, – он умудрялся явно или скрыто связать со своими революционными идеями. Читателя чрезвычайно занимало это «чтение между строк», и благодаря смелой игре с властями, Чернышевский вскоре стал кумиром революционно настроенной молодёжи, не желающей останавливаться на достигнутом в результате либеральных реформ.
Противостояние с властью: 1861-1862
То, что произошло дальше - быть может, одна из самых тяжелых страниц в истории нашей страны, свидетельство трагического непонимания между властью и большей частью образованного общества, которое едва не привело к гражданской войне и национальной катастрофе уже в середине 1860-х годов…
Государство, освободив в 1861 году крестьян, начало подготовку новых реформ практически в каждой области государственной деятельности. А революционеры, во многом вдохновляемые Чернышевским и его единомышленниками, ждали крестьянского восстания, которое к их удивлению не произошло. Отсюда молодыми нетерпеливым людьми был сделан чёткий вывод: если народ не понимает необходимости совершения революции, ему надо это объяснить, призвать крестьян к активным действиям против правительства.
Начало 1860-х годов – время возникновения многочисленных революционных кружков, стремившихся к энергичным действиям на благо народа. В результате в Петербурге начали распространяться прокламации, подчас достаточно кровожадные, призывавшие к восстанию и свержению существующего строя. С лета 1861 по весну 1862 года Чернышевский был идейным вдохновителем и советником революционной организации «Земля и Воля». С сентября 1861 года находился под тайным надзором полиции.
Между тем, обстановка в столицах и в целом по стране стала достаточно напряжённой. И революционеры, и правительство считали, что в любой момент может произойти взрыв. В результате, когда душным летом 1862 года в Петербурге начались пожары, по городу немедленно поползли слухи, что это дело рук «нигилистов». Сторонники жёстких действий сразу же отреагировали – издание «Современника», резонно считавшегося распространителем революционных идей, было приостановлено на 8 месяцев.
Вскоре после этого власти перехватили письмо А.И.Герцена, уже пятнадцать лет находившегося в эмиграции. Узнав о закрытии «Современника», он написал сотруднику журнала, Н.А. Серно-Соловьевичу, предлагая продолжить издание за границей. Письмо было использовано, как повод, и 7 июля 1862 года Чернышевский и Серно-Соловьевич были арестованы и помещены в Петропавловскую крепость. Однако никаких других улик, которые подтверждали бы тесные связи редакции «Современника» с политическими эмигрантами, найдено не было. В результате Н.Г.Чернышевскому было предъявлено обвинение в написании и распространении прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Учёные до сегодняшнего дня не пришли к единому выводу о том, был ли Чернышевский автором этого революционного воззвания. Ясно одно – таких доказательств не было и у властей, поэтому им пришлось осудить обвиняемого на основании ложных свидетельских показаний и сфальсифицированных документов.
В мае 1864 года Чернышевский был признан виновным, осужден на семь лет каторжных работ и ссылку в Сибирь до конца своей жизни. 19 мая 1864 года над ним был публично совершен обряд «гражданской казни» – писателя вывели на площадь, повесив на грудь доску с надписью «государственный преступник», сломали над его головой шпагу и вынудили простоять несколько часов, прикованным цепями к столбу.
«Что делать?»
Пока шло следствие, Чернышевский написал в крепости свою главную книгу – роман «Что делать?». Литературные достоинства этой книги не слишком высоки. Скорее всего, Чернышевский и не предполагал, что её будут оценивать, как действительно художественное произведение, включат в школьную программу по русской литературе(!) и заставят ни в чём неповинных детей писать сочинения о снах Веры Павловны, сравнивать образ Рахметова с не менее великолепной карикатурой Базарова и т.д. Для автора - политического заключённого, находящегося под следствием - в тот момент было важнее всего высказать свои идеи. Естественно, что их было проще облечь в форму «фантастического» романа, чем публицистического произведения.
В центре сюжета романа – история молодой девушки, Верочки Розальской, Веры Павловны, уходящей из семьи, чтобы освободиться от гнёта своей деспотической матери. Единственным способом для совершения такого шага в то время могло быть супружество, и Вера Павловна заключает фиктивный брак со своим учителем Лопуховым. Постепенно между молодыми людьми возникает настоящее чувство, и брак из фиктивного становится настоящим, однако, жизнь в семье организована таким образом, чтобы оба супруга чувствовали себя свободными. Ни один из них не может войти в комнату другого без его разрешения, каждый уважает человеческие права своего партнёра. Именно поэтому, когда Вера Павловна влюбляется в Кирсанова, друга своего мужа, то Лопухов, не рассматривающий жену, как свою собственность, инсценирует собственное самоубийство, предоставляя ей таким образом свободу. Позже Лопухов, уже под другим именем, поселится в одном доме с Кирсановыми. Его не будет мучить ни ревность, ни уязвленное самолюбие, так как свободу человеческой личности он ценит больше всего.
Однако любовной интригой роман «Что делать?» не исчерпывается. Рассказав читателю о том, как следует преодолевать трудности в человеческих отношениях, Чернышевский предлагает и свой вариант решения экономических проблем. Вера Павловна заводит швейную мастерскую, организованную на началах ассоциации, или, как мы бы сегодня сказали, кооператива. По мнению автора, это было не менее важным шагом к перестройке всех человеческих и общественных отношений, чем освобождение от родительского или супружеского угнетения. То, к чему человечество должно придти в конце этой дороги, является Вере Павловне в четырех символических снах. Так, в четвертом сне она видит счастливое будущее людей, устроенное так, как об этом мечтал Шарль Фурье: все живут вместе в одном большом прекрасном здании, вместе работают, вместе отдыхают, уважают интересы каждого отдельного человека, и одновременно трудятся на благо общества.
Приблизить этот социалистический рай, естественно, должна была революция. Об этом заключённый Петропавловской крепости конечно же, не мог написать открыто, однако разбросал намёки по всему тексту своей книги. Лопухов и Кирсанов явно связаны с революционным движением или, во всяком случае, сочувствуют ему.
В романе появляется человек, хотя и не названный революционером, но выделенный, как «особый». Это Рахметов, ведущий аскетический образ жизни, постоянно тренирующий свою силу, даже попытавшийся спать на гвоздях, чтобы проверить свою выдержку, очевидно, на случай ареста, читающий только «капитальные» книги, чтобы не отвлекаться по пустякам от главного дела своей жизни. Романтический образ Рахметова сегодня может вызвать лишь гомерический хохот, но многие психически полноценные люди 60–70-х годов XIX века искренне восхищались им и воспринимали этого «сверхчеловека» чуть ли не как идеал личности.
Революция, как надеялся Чернышевский, должна была произойти уже совсем скоро. На страницах романа время от времени возникает дама в чёрном, скорбящая о своем супруге. В конце романа, в главе «Перемена декораций» она появляется уже не в чёрном, а в розовом, в сопровождении некоего господина. Очевидно, работая над своей книгой в камере Петропавловской крепости, писатель не мог не думать о своей жене, и надеялся на своё скорое освобождение, прекрасно понимая, что это может произойти только в результате революции.
Подчёркнуто занимательное, авантюрное, мелодраматическое начало романа, по расчётам автора, должно было не только привлечь широкие массы читателей, но и сбить с толку цензуру. С января 1863 года рукопись частями передавалась в следственную комиссию по делу Чернышевского (последняя часть была передана 6 апреля). Как и рассчитывал писатель, комиссия увидела в романе лишь любовную линию и дала разрешение к печати. Цензор «Современника», впечатлённый «разрешительным» заключением следственной комиссии, и вовсе не стал читать рукопись, передав её без изменений в руки Н.А.Некрасову.
Оплошность цензуры, конечно, вскоре была замечена. Ответственного цензора Бекетова отстранили от должности, но было поздно…
Впрочем, публикации «Что делать?» предшествовал один драматический эпизод, известный со слов Н.А.Некрасова. Забрав единственный экземпляр рукописи у цензоров, редактор Некрасов по дороге в типографию каким-то загадочным образом его потерял и не сразу обнаружил потерю. Но словно самому Провидению было угодно, чтобы роман Чернышевского всё-таки увидел свет! Мало надеясь на успех, Некрасов поместил объявление в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции», и через четыре дня какой-то бедный чиновник принёс свёрток с рукописью прямо на квартиру поэта.
Роман был напечатан в журнале «Современник» (1863, № 3-5).
Когда цензура опомнилась, номера «Современника», в которых печатался «Что делать?», тут же оказались под запретом. Только изъять весь уже разошедшийся тираж полиции оказалось не под силу. Текст романа в рукописных копиях со скоростью света разлетелся по стране и вызвал массу подражаний. Разумеется, не литературных.
Писатель Н.С.Лесков впоследствии вспоминал:
Дату выхода в печать романа «Что делать?», по большому счёту, следовало бы внести в календарь истории России как одну из самых чёрных дат. Ибо своеобразное эхо этого «мозгового штурма» раздаётся в нашем сознании по сей день.
К сравнительно «невинным» последствиям публикации «Что делать?» можно отнести возникновение в обществе острейшего интереса к женскому вопросу. Девушек, желавших последовать примеру Верочки Розальской, в 1860-е годы было более, чем достаточно. «Фиктивные браки с целью освобождения генеральских и купеческих дочек из-под ига семейного деспотизма в подражание Лопухову и Вере Павловне сделались обыденным явлением жизни»,- утверждал современник.
То, что прежде считалось обычным развратом, теперь красиво именовалось «следованием принципу разумного эгоизма». Уже к началу XX века выведенный в романе идеал «свободных отношений» привёл к полному нивелированию семейных ценностей в глазах образованной молодёжи. Авторитет родителей, институт брака, проблема моральной ответственности перед близкими людьми – всё это объявлялось «пережитками», несовместимыми с духовными запросами «нового» человека.
Вступление женщины в фиктивный брак было уже само по себе смелым гражданским поступком. В основе же такого решения лежали, как правило, самые благородные помышления: освободиться от семейного ига для того, чтобы служить народу. В дальнейшем пути раскрепощенных женщин расходились в зависимости от понимания каждой из них этого служения. Для одних цель - знания, чтобы сказать свое слово в науке или стать просветительницей народа. Но более логичен и распространен был другой путь, когда борьба с семейным деспотизмом прямо приводила женщин в революцию.
Прямым следствием «Что делать?» выступает позднейшая революционная теория генеральской дочки Шурочки Коллонтай о «стакане воды», а поэт В.Маяковский, долгие годы составлявший «тройственный союз» с супругами Брик, сделал роман Чернышевского своей настольной книгой.
«Жизнь, описанная в ней, перекликалась с нашей. Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нём поддержку. „Что делать?“ была последняя книга, которую он читал перед смертью…», - вспоминала сожительница и биограф Маяковского Л.О.Брик.
Однако самым главным и трагическим последствием публикации произведения Чернышевского стал тот неоспоримый факт, что несметное количество молодых людей обоего пола, вдохновившись романом, решили стать революционерами.
Идеолог анархизма П.А. Кропоткин без преувеличения заявлял:
Молодое поколение, воспитанное на книге, написанной в крепости политическим преступником, и запрещённой правительством, оказалось враждебным царской власти. Все проводимые «сверху» либеральные реформы 1860-70-х годов, не смогли создать почвы для разумного диалога между обществом и властью; не смогли примирить радикально настроенную молодёжь с российской действительностью. «Нигилисты» 60-х годов, под влиянием «снов» Веры Павловны и незабываемого образа «сверхчеловека» Рахметова, плавно эволюционировали в тех самых, вооружённых бомбами революционных «бесов», которые 1 марта 1881 года убили Александра II. В начале XX века, приняв к сведению критику Ф.М. Достоевского и его размышления о «слезе ребёнка», они уже терроризировали всю Россию: практически безнаказанно отстреливали и взрывали великих князей, министров, крупных государственных чиновников, словами давно почивших Маркса, Энгельса, Добролюбова, Чернышевского вели революционную агитацию среди народных масс…
Сегодня, с высоты веков, остаётся лишь пожалеть, что царское правительство не догадалось в 1860-е годы вовсе отменить цензуру и разрешить создавать произведения, подобные «Что делать?», каждому скучающему графоману. Более того, роман нужно было включить в образовательную программу, заставив гимназистов и студентов писать по нему сочинения, а «чётвёртый сон Веры Павловны» - заучивать наизусть для воспроизведения на экзамене в присутствии комиссии. Тогда бы вряд ли кому-нибудь пришло в голову печатать текст «Что делать?» в подпольных типографиях, распространять в списках, а тем более – его читать…
Годы в ссылке
Сам Н.Г.Чернышевский уже практически не участвовал в бурном общественном движении последующих десятилетий. После обряда гражданской казни на Мытнинской площади он был отправлен в Нерчинскую каторгу (Кадайский рудник на монгольской границе; в 1866 переведен в Александровский завод Нерчинского округа). Во время пребывания в Кадае ему было разрешено трехдневное свидание с женой и двумя маленькими сыновьями.
Ольга Сократовна, в отличие от жён «декабристов», за своим супругом-революционером не последовала. Она не была ни сподвижницей Чернышевского, ни членом революционного подполья, как это пытались представить в своё время некоторые советские исследователи. Госпожа Чернышевская продолжала жить с детьми в Петербурге, не чуралась светских развлечений, заводила романы. По мнению некоторых современников, несмотря на бурную личную жизнь, эта женщина никогда и никого не любила, поэтому для мазохиста и подкаблучника Чернышевского она оставалась идеалом. В начале 1880-х годов Ольга Сократовна переехала в Саратов, в 1883 году состоялось воссоединение супругов после 20-и летней разлуки. Как библиограф, Ольга Сократовна оказала неоценимую помощь в работе над публикациями Чернышевского и Добролюбова в петербургских журналах 1850-60-х годов, в том числе и в «Современнике». Она сумела внушить сыновьям, которые практически не помнили своего отца (когда Чернышевского арестовали одному было 4, другому 8 лет), глубокое уважение к личности Николая Гавриловича. Младший сын Н.Г.Чернышевского Михаил Николаевич много сделал для создания и сохранения ныне существующего дома-музея Чернышевского в Саратове, а также для изучения и публикации творческого наследия своего отца.
В революционных кругах России и политической эмиграции вокруг Н.Г.Чернышевского тут же был создан ореол мученика. Его образ превратился почти в революционную икону.
Ни одна студенческая сходка не обходилась без упоминания имени страдальца за дело революции и чтения его запрещённых произведений.
«В истории нашей литературы... - писал позднее Г.В.Плеханов,- нет ничего трагичнее судьбы Н. Г. Чернышевского. Трудно даже представить себе, сколько тяжёлых страданий гордо вынес этот литературный Прометей в течение того длинного времени, когда его так методически терзал полицейский коршун…»
Между тем, никакой «коршун» ссыльного революционера не терзал. Политические арестанты в то время настоящей каторжной работы не выполняли, и в материальном отношении жилось Чернышевскому на каторге не особенно тяжело. Одно время он даже жил в отдельном домике, постоянно получая деньги от Н.А.Некрасова и Ольги Сократовны.
Более того, царское правительство было настолько милосердно к своим политическим противникам, что позволило Чернышевскому и в Сибири продолжать свою литературную деятельность. Для спектаклей, устраивавшихся иногда на Александровском заводе, Чернышевский сочинял небольшие пьесы. В 1870 году он написал роман «Пролог», посвящённый жизни революционеров в конце пятидесятых годов, непосредственно перед началом реформ. Здесь под вымышленными именами были выведены реальные люди той эпохи, в том числе и сам Чернышевский. «Пролог» был опубликован в 1877 году в Лондоне, однако по силе воздействия на российскую читающую публику он, конечно же, сильно уступал «Что делать?»
В 1871 году закончился срок каторги. Чернышевский должен был перейти в разряд поселенцев, которым предоставлялось право самим избрать место жительства в пределах Сибири. Но шеф жандармов граф П.А. Шувалов настоял на поселении его в Вилюйске, в самом суровом климате, что ухудшило условия жизни и состояние здоровья писателя. Более того, в Вилюйске того времени из приличных каменных зданий существовала только тюрьма, в которой ссыльный Чернышевский и вынужден был поселиться.
Революционеры долго не оставляли попыток вызволить своего идейного лидера. Сначала об организации побега Чернышевского из ссылки думали члены Ишутинского кружка, из которого вышел Каракозов. Но кружок Ишутина был вскоре разгромлен, и план спасения Чернышевского остался неосуществлённым. В 1870 году один из выдающихся русских революционеров, Герман Лопатин, близко знакомый с К.Марксом, пытался спасти Чернышевского, но был арестован прежде, чем добрался до Сибири. Последняя, поразительная по смелости попытка была предпринята в 1875 году революционером Ипполитом Мышкиным. Одетый в форму жандармского офицера, он явился в Вилюйск и предъявил поддельный приказ о выдаче ему Чернышевского для сопровождения его в Петербург. Но лже-жандарм был заподозрен вилюйскими властями и должен был бежать, спасая свою жизнь. Отстреливаясь от посланной за ним погони, скрываясь целыми днями в лесах и болотах, Мышкину удалось уйти почти на 800 вёрст от Вилюйска, но всё же он был схвачен.
Нужны ли были все эти жертвы самому Чернышевскому? Пожалуй, нет. В 1874 году ему было предложено подать прошение о помиловании, которое, вне сомнения, было бы удовлетворено Александром II. Революционер мог покинуть не только Сибирь, но и вообще Россию, уехать за границу, воссоединиться со своей семьёй. Но Чернышевского более прельщал ореол мученника за идею, поэтому он отказался.
В 1883 году министр внутренних дел граф Д.А. Толстой ходатайствовал о возвращении Чернышевского из Сибири. Местом для жительства ему была назначена Астрахань. Перевод из холодного Вилюйска в жаркий южный климат мог губительно сказаться на здоровье престарелого Чернышевского, и даже убить его. Но революционер благополучно переехал в Астрахань, где продолжал находиться на положении ссыльного под надзором полиции.
Всё время, проведённое в ссылке, он жил на средства, присылавшиеся Н.А. Некрасовым и его родственниками. В 1878 году Некрасов умер, и содержать Чернышевского было больше некому. Поэтому в 1885 году, чтобы как-то материально поддержать бедствующего писателя, друзья устроили для него перевод 15-томной «Всеобщей Истории» Г. Вебера у известного издателя-мецената К.Т. Солдатёнкова. В год Чернышевским переводилось по 3 тома, каждый в 1000 страниц. До 5 тома Чернышевский ещё переводил буквально, но затем стал делать большие сокращения в оригинальном тексте, который ему не нравился своей устарелостью и узконемецкой точкой зрения. Взамен выброшенных отрывков он стал прибавлять ряд всё разраставшихся очерков собственного сочинения, что, естественно, вызвало неудовольствие издателя.
В Астрахани Чернышевский успел перевести 11 томов.
В июне 1889 года, по ходатайству астраханского губернатора - князя Л.Д. Вяземского, ему разрешено было поселиться в родном Саратове. Там Чернышевским было переведено ещё две трети 12 тома Вебера, планировался перевод 16-томного «Энциклопедического Словаря» Брокгауза, но чрезмерная работа надорвала старческий организм. Обострилась давнишняя болезнь - катар желудка. Проболев всего 2 дня, Чернышевский, в ночь на 29 октября (по старому стилю - с 16 на 17 октября) 1889 года, скончался от кровоизлияния в мозг.
Сочинения Чернышевского оставались запрещёнными в России вплоть до революции 1905 – 1907 годов. Среди его опубликованных и неопубликованных произведений –статьи, рассказы, повести, романы, пьесы: «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855 - 1856), «О поземельной собственности» (1857), «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов» (1857), «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), «Русский человек на rendez-vous» (1858, по поводу повести И.С. Тургенева «Ася»), «О новых условиях сельского быта» (1858), «О способах выкупа крепостных крестьян» (1858), «Труден ли выкуп земли?» (1859), «Устройство быта помещичьих крестьян» (1859), «Экономическая деятельность и законодательство» (1859), «Суеверие и правила логики» (1859), «Политика» (1859 - 1862; ежемесячные обзоры международной жизни), «Капитал и труд» (1860), «Примечания к „Основаниям политической экономии” Д.С. Милля» (1860), «Антропологический принцип в философии» (1860, изложение этической теории «разумного эгоизма»), «Предисловие к нынешним австрийским делам» (февраль 1861), «Очерки политической экономии (по Миллю)» (1861), «Политика» (1861, о конфликте между Севером и Югом США), «Письма без адреса» (февраль 1862, опубликованы за границей в 1874), «Что делать?» (1862 - 1863, роман; написан в Петропавловской крепости), «Алферьев» (1863, повесть), «Повести в повести» (1863 - 1864), «Мелкие рассказы» (1864), «Пролог» (1867 - 1869, роман; написан на каторге; 1-я часть опубликована в 1877 за границей), «Отблески сияния» (роман), «История одной девушки» (повесть), «Мастерица варить кашу» (пьеса), «Характер человеческого знания» (философская работа), работы на политические, экономические, философские темы, статьи о творчестве Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Н.В. Успенского.
В статье, написанной по случаю нового издания "Сочинений А. Погорельского" ("Современник", No VI, библиография), мы говорили о бессилии нынешней критики и указали на одну из главнейших причин этого грустного явления -- уступчивость, уклончивость, мягкосердечие. Вот наши слова:
"Причина бессилия современной критики -- то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Она стоит в уровень с теми произведениями, которыми удовлетворяется; как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? Она ниже публики; такою критикою могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах" 1 .
И мы заключили статью словами: "нет, критика должна стать гораздо строже, серьезнее, если хочет быть достойною имени критики". Мы указывали, как на пример того, какова должна быть истинная критика, на критику "Московского телеграфа" 2 , и, конечно, не по недостатку лучших примеров. Но мы удерживались от всяких -- не говорим указаний, даже от всяких намеков на те или другие статьи того или другого журнала, нежность, слабость которых ставит ныне в необходимость напоминать критике о ее правах, о ее обязанностях,-- и мы не хотели приводить примеров наверное уже не потому, чтобы трудно было набрать их сотни. Каждый из наших журналов за последние годы мог представить немало материалов для таких указаний; разница была только в том, что один журнал мог представить их больше, другой -- меньше. Поэтому нам казалось, что делать выписки из статей того или другого журнала значило бы только без нужды придавать полемический характер статье, писанной с намерением указать недостаток, общий до некоторой степени всем журналам, а вовсе не с целью попрекать тот или другой журнал. Мы считали излишним указывать примеры потому, что, желая, чтобы критика вообще вспомнила о своем достоинстве, мы вовсе не хотели ставить тот или другой журнал в необходимость защищать свои слабые стороны и через это прилепляться к прежним слабостям,-- известно, что, принужденный спорить, человек делается склонен увлекаться положениями, которые сначала защищал он, может быть, только по необходимости отвечать что-нибудь и которых неосновательность или недостаточность он, может быть, готов был бы признать, если бы его не заставляли признаваться открыто. Одним словом, принятие общего принципа мы не хотели делать затруднительным ни для кого и потому не хотели затрогивать ничьего самолюбия. Но если кто-нибудь сам, без всякого вызова, провозглашает себя противником общего начала, кажущегося нам справедливым, то он уже ясно выразил, что не признает справедливости общего начала, а напротив.
После всех этих долгих оговорок и смягчений, очень ясно доказывающих, как глубоко прониклись духом нынешней критики и мы, восстающие против ее слишком мягких, мягких до неосязаемости приемов, можем приступить к делу и сказать, что "Отечественные записки" недовольны прямотою некоторых наших отзывов о слабых, по нашему мнению, беллетристических произведениях, хотя и украшенных более или менее известными именами (ниже мы представим этот отзыв вполне), и что мы, с своей стороны, также не исключали довольно многих критических статей "Отечественных записок" из общей массы робких и слабых критик, восставать против размножения которых мы считали и считаем настоятельною необходимостью. Цель нашей статьи вовсе не та, чтобы выставить на вид чужие мнения, а та, чтобы яснее изложить наши понятия о критике. И если примеры критики, несогласной, по нашему мнению, с истинными понятиями о серьезной критике, мы заимствуем из "Отечественных записок", то вовсе не потому, чтобы мы желали упрекнуть в слабости критики исключительно "Отечественные записки". Повторяем, что мы восстаем против слабости критики вообще: если бы она была слаба только в том или другом журнале, стоило ли бы так много хлопотать? Касаемся же мы преимущественно "Отечественных записок", заимствуя исключительно из них примеры, потому что они взяли на себя труд защищать и хвалить "умеренную и спокойную критику" 3 ,-- где же, как не у защитника, и надобно искать истинных образцов защищаемого?
Вот, например ("Отечественные записки", 1853, No 10), разбор романа г. Григоровича "Рыбаки". Здесь главный предмет критики -- рассмотрение вопроса о том, действительно ли можно ловить пескарей одинокому старику удочкою, а не бреднем (для которого нужны двое людей), и действительно ли можно видеть на Оке во время половодья ласточек, стрижей, дроздов и скворцов, или они прилетают не во время половодья, а несколькими днями позже или раньше 4 ; одним словом, тут говорится не столько о романе, сколько о том,
Какая птица где живет,
Какие яйца несет 5 .
Без всякого сомнения, говорить о недостатках и достоинствах романа с этой точки зрения можно и должно очень хладнокровно.
Вот еще разбор романа г-жи Т. Ч. "Умная женщина" ("Отечественные записки", 1853, No 12); сущность отзыва состоит в следующем:
"Вот сюжет "Умной женщины", одной из лучших повестей г-жи Т. Ч. Сколько в этом рассказе умного, нового и занимательного. Мы пропустили в рассказе всю прежнюю жизнь холостяка и умной женщины, жизнь, которая занимает по крайней мере три четверти романа. Но эта жизнь до нас не касается" 6 .
Хорош и занимателен должен быть роман, в котором по крайней мере три че т верти не стоит и читать.
"Лицо, взятое автором, очень интересно; но для полной обрисовки его автор как будто пожалел красок, в которых у него нет недостатка (отчего же лицо бледно, если автор имеет дарование ярко обрисовывать лица?). Мы, кажется, не ошибемся, если скажем, что г-жа Т. Ч. мало заботилась о том, как воспользоваться сюжетом; достаточно прочесть выписанные нами сцены, чтобы убедиться, что она могла как нельзя лучше выполнить такую задачу" 7 .
Действительно, такие отзывы состоят из "загадок", как и называет рецензент свой разбор "Умной женщины", принимаясь за него ("от рассуждения о литературе переходим к диссертации о старых холостяках и на их счет задаем читателю загадку. Пусть отгадает, кто может". Но, во-первых, никто не может разгадать ее; во-вторых, кому же и охота разгадывать критические разборы? Шарад и ребусов не требует от русских журналов ни один читатель).
Таковы же отзывы о стихотворениях г. Фета, о романе "Мелочи жизни" 8 и т. д. Никто не отгадает, хороши или дурны, превосходны или несносно плохи эти произведения по мнению рецензентов. На каждую похвалу или порицание у них всегда готова совершенно равносильная оговорка или намек в противоположном смысле. Но нам нельзя утомлять читателей всеми этими примерами; ограничимся одним только отзывом о романе г-жи Тур "Три поры жизни".
"Слабые стороны повестей и романов г-жи Тур стали вдруг ярче и заметнее" (вы ожидаете, что смысл этой фразы: г-жа Тур стала писать хуже прежнего? нет), это "обстоятельство, в котором наша романистка должна винить не себя, а своих ценителей", потому что ее уже слишком много хвалили (вы думаете, что эта фраза значит: ее захвалили, она стала писать небрежно, перестала заботиться об исправлении своих недостатков? Нет, вовсе нет), журнальные похвалы и порицания не могут возмущать собственного суждения автора о своем таланте, потому что "лучший критик для романиста -- всегда сам романист" (вы думаете, что это относится к г-же Тур? Нет, потому что) "женщина всегда зависит от чужого суда" и "в самой гениальной женщине не отыщется той беспристрастной самостоятельности", которая дает мужчине возможность не подчиняться влиянию критики; "на всякую даровитую женщину вредно действует восторг друга, комплимент вежливого ценителя", вследствие их "она дает своему таланту несамобытное направление, сообразное заблуждениям своих жарких приверженцев" (это ведет, по вашему предположению, к объявлению, что новый роман г-жи Тур несамостоятелен, что "она сочинила слова на чужой мотив"? нет), "в последнем романе г-жи Тур мы видим довольно много самостоятельности", "взгляд романистки на большую часть ее героев и героинь принадлежит ей собственно"; но эта самостоятельность "затемнена оборотами, очевидно зародившимися под чужим влиянием". (Вы думаете, что это недостаток? Нет, не в этом он). "В романе г-жи Тур недостает внешнего интереса сюжета, интриги событий" (итак, в нем нет интриги событий? Нет, есть, потому что из слов рецензента) "не следует", чтобы "он принадлежал к разряду романов, в которых важнейшее событие -- наем квартиры или что-нибудь в этом роде". Роман г-жи Тур незанимателен не по недостатку интриги, а потому, что "герой его, Огинский, не может занять читателей" (почему же? потому что он бесцветен? нет, потому что) "г-жа Тур не рассказала нам, как он служил, путешествовал, управлял своими делами" (но ведь именно это и погубило бы интригу, сюжет, которого вы требуете); Огинский три раза влюблен (вот целых три интриги, а вы говорили, что нет ни одной), а "жизнь мужчины состоит не из одной любви" (потому-то и надобно было рассказать о всех, ненужных для романа, подробностях службы и путешествий Огинского!). Лицо Огинского испортило роман; "он принес много несчастия произведению" (следовательно, это лицо в романе дурно? нет, хорошо, потому что он) "мог бы принести еще более несчастия произведению, если бы несомненный ум сочинительницы не исправлял дела везде, где можно" (хороша похвала! да зачем же выбран такой герой?). В истории всех трех нежных привязанностей Огинского "перед нами действует слабость, соединенная то с аффектацией, то с экзальтацией" (итак, роман испорчен аффектациею и экзальтациею? нет, напротив), "сочинительница питает к ним глубокое отвращение" (но если они изображены с отвращением, в истинном свете, то это достоинство, а не недостаток). "Разговор жив", хотя "по временам испорчен научными выражениями"; и хотя "многие афоризмы и тирады, влагаемые даже в уста молодых девушек, кажутся нам достойными ученого трактата, а все-таки разговор представляет квинтэссенцию живой речи". -- "Слог г-жи Тур может быть во многом исправлен к лучшему, если того будет угодно самой сочинительнице" (!!) 9 .
Вот до каких противоречий, колебаний доводит критику стремление к "умеренности", то есть к смягчению всех легких сомнений в абсолютном достоинстве романа, какие только позволяет себе на минуту предложить смиренный рецензент. Сначала он как будто бы хочет сказать, что роман хуже прежних, потом прибавляет: нет, я не это хотел сказать, а я хотел сказать, что в романе нет интриги: но и это я сказал не безусловно, напротив, в романе есть хорошая интрига; а главный недостаток романа то, что неинтересен герой; впрочем, лицо этого героя очерчено превосходно; однако -- впрочем, я не хотел сказать и "однако", я хотел сказать "притом"... нет, я не хотел сказать и "притом", а хотел только заметить, что слог романа плох, хотя язык превосходен, да и это "может быть исправлено, если того будет угодно самому автору". Какой отзыв можно сделать о подобных отзывах? Разве следующий, в том же роде: "Они очень подробно исчисляют сотни крупных достоинств, хотя с еще более крупными оговорками, впрочем, не без новых похвальных оговорок, и потому хотя в них сказано обо всем, но не сказано ничего; из этого, однако, не следует, чтобы они были лишены достоинства, которого существование хотя и незаметно, однако неоспоримо". Можно еще выразиться о них словами самих "Отечественных записок" так: "что разумеют у нас под словом "критика"? -- статью, в которой автор много наговорил, не сказав ничего" 10 . Можно еще сказать, что к подобной критике вполне прилагается начало одного романса:
Не говори ни "да", ни "нет",
Будь равнодушна, как бывало,
И на решительный ответ
Накинь сомненья покрывало 11 .
Но что особенно дурного сделает критика, если будет прямо, ясно и без всяких недомолвок высказывать свое мнение о достоинствах и даже (о, ужас!) недостатках литературных произведений, украшенных более или менее известными именами? Ведь этого именно и требуют от нее и читатели, и самая польза литературы? За что ее будет можно упрекнуть в этом случае? Это скажут нам "Отечественные записки"; эпиграфом к выписке мы возьмем слова также "Отечественных записок", сказанные довольно давно: "У нас еще надо толковать о таких простых и обыкновенных понятиях, о которых уже не толкуют ни в одной литературе" 12 .
"В последнее время в отзывах наших журналов о разных писателях привыкли мы встречать тон умеренный, хладнокровный; если же и читали подчас приговоры несправедливые, по нашему мнению, то самый тон статей, чуждый всякой запальчивости, обезоруживал нас. Мы можем не соглашаться с мнением автора, но каждый вправе иметь свое собственное мнение. Уважение к чужому мнению -- порука за уважение к нашему собственному. Все журналы немало способствовали к обузданию рецензентов, ничего не принимающих во внимание, кроме своих личных мнений, желаний и часто выгод. Но мы должны признаться, что в последнее время некоторые рецензии "Современника" крайне удивили нас своею опрометчивостью суждений, ничем не доказанною. Взгляд, противоречащий тому, что недавно говорил еще сам "Современник", и несправедливость отзыва, обращенная к таким писателям, как г-жа Евгения Тур, г. Островский, г. Авдеев, придали какой-то странный вид библиографии "Современника" последних месяцев, поставленной в решительное противоречие с самой собою. Что она говорила год назад, то теперь отвергает положительнейшим образом. Еще другие мысли приходят в голову. Пока, например, в "Современнике" печатались повести г. Авдеева, журнал этот хвалил г. Авдеева; точно то же должно сказать об отзывах его о Евгении Тур. Или рецензент не справился с мнениями, прежде высказанными в этом журнале? или он знал их, но хотел отличиться резкою оригинальностью? Вот что, например, было сказано в "Современнике" Новым поэтом в 1853 году в апрельской книжке, по поводу комедии г. Островского "Не в свои сани не садись" (следует выписка: мы их будем здесь выпускать, потому что сличим и объясним их мнимую противоп о ложность ниже). Одним словом, комедия расхвалена. Теперь посмотрите, что сказано о той же комедии и еще о другой, новой, "Бедность не порок" в библиографии майской книжки "Современника" 1854 года, то есть, спустя один только год (выписка). Такие отзывы получил на свою долю г. Островский. Вот что сказано в той же книжке о последнем романе г-жи Евгении Тур "Три поры жизни" (выписка). Можно ли так выражаться об авторе "Племянницы", "Ошибки", "Долга", если б даже новый роман г-жи Евгении Тур был и неудачен? Приговор несправедлив, потому что произведение талантливого писателя, как бы оно ни не удалось, никогда не может быть безусловно дурно; но странно встретить этот отзыв в "Современнике", где до настоящего времени о таланте г-жи Евгении Тур говорили совсем другое. Перечтите, например, что было сказано г. И. Т. в 1852 году о произведениях г-жи Евгении Тур (выписка). Как кстати после этого приведенный нами выше отзыв о даровании г-жи Тур, где нет даже и слова о таланте этой писательницы! С какою горькою усмешкою должны после этого писатели смотреть на журнальные хвалы и порицания? Неужели критика игрушка? Но всего более несправедливый отзыв сделан в "Современнике" нынешнего же года о г. Авдееве, одном из лучших наших рассказчиков, которого прежде (когда г. Авдеев печатал свои произведения в "Современнике") этот журнал в своих объявлениях о подписке и в своих обозрениях литературы всегда ставил наряду с первыми нашими писателями. Доказательств этому так много, что их трудно и перечислить. Возьмите, например, обзор литературы за 1850 год, где исчисляются наши лучшие повествователи: там г. Авдеев поставлен наряду с Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Тургеневым. Что ж говорится в февральской книжке "Современника" за 1854 год (выписка)? А не угодно ли, мы скажем вам то, что "Современник" говорил в 1851 году? Но, может быть, рецензенту нет дела до мнений "Современника"? В таком случае рецензенту не мешало бы подписать свое имя под статьей, опровергающей мнение журнала, в котором он пишет. Мы ниже приведем, что говорил "Современник" в 1851 году, а теперь выпишем еще одно место, поражающее своею нецеремонностью, далеко нефешёнэбльною (выписка: в ней, как самые нефешёнэбльные выражения, подчеркнуты слова: "Тамарин... показал в нем способность к разв и тию... Ни одна из его повестей не может назваться произведением человека мы с лящего"). Позвольте, г. мыслящий рецензент, заметить вам, что, кажется, вы понимаете мысль только тогда, когда она выражена в виде сентенций; иначе, как бы не видеть мысли хоть бы и в "Тамарине" (там рецензент был облегчен "Введ е нием", где изложена мысль произведения) и в других повестях г. Авдеева? Но допустим, что в них нет новой мысли, пусть так. А какую особенную мысль рецензент найдет в "Обыкновенной истории" или во "Сне Обломова" г. Гончарова, в "Истории моего детства" г. Л. -- рассказах увлекательных? И наоборот: какую прелесть г. рецензент найдет в драме г. Потехина "Гувернантка", где в основании лежит мысль умная, благородная? Отчего ж такое презрение к мастерскому рассказу, который виден во всех произведениях г. Авдеева? Вы говорите, что г. Авдеев исключительно является подражателем в своем "Тамарине". Но мы заметим... Впрочем, зачем нам говорить? Об этом уже сказал свое мнение "Современник" в обозрении литературы за 1850 год. Вот оно (мы извиняемся перед читат е лем за длинные выписки, но полагаем, что читатель видит, как важны в этом случае цитаты из "Современника", который некогда хвалил, а теперь бранит тех же самых писателей) (выписка). Что после этого сказать об отзывах рецензента "Современника", рецензента, от которого этот журнал стал в такое странное положение относительно своих собственных мнений? Хвалить и отрицать всякое достоинство, говорить в одно время и да и нет, не значит ли это -- не знать, что сказать о трех лучших наших писателях? Хотеть вычеркнуть из списка литераторов трех таких писателей, как гг. Островский, Евгения Тур и Авдеев, не значит ли брать на свои плеча тяжесть не по силам? И за что же такое нападение? Вопрос этот мы оставляем на разрешение самому читателю" 13 .
Для чего мы выписали это длинное место? Мы желаем, чтобы оно послужило образцом того, до какой степени нынешняя критика позабывает иногда о самых элементарных началах всякой критики. Наши замечания будут говорить только о таких понятиях, не сознавая которых решительно невозможно составить понятия о критике. А между тем, пробежав наши замечания, пусть потрудится читатель еще раз прочитать выписку: при всевозможном внимании не найдет он никакого следа того, что недовольный нами критик имел в виду эти понятия; они не отразились ни на одной фразе, ни на одном слове.
"Отечественные записки" недовольны "Современником" за то, что он непоследователен, противоречит сам себе. Непоследовательность "Современника" состоит в том, что прежде он хвалил произведения гг. Островского, Авдеева и г-жи Тур, а теперь позволил себе сделать очень неблагоприятный отзыв о произведениях тех же самых писателей. Неужели же надобно объяснять, что такое последовательность? Вопрос действительно очень мудреный, едва ли не труднее примирения "да" и "нет" в одной статье об одной и той же книге; потому попробуем изложить его самым важным тоном.
Последовательность в суждениях состоит в том, чтобы о предметах одинаковых суждения были одинаковы. Например, в том, чтобы все хорошие произведения хвалить, все плохие, но полные претензий, одинаково осуждать. Например, хваля "Героя нашего времени", хвалить и "Песню про Калашникова"; но отозваться о "Маскараде" так же, как о "Герое нашего времени", было бы непоследовательно, потому что хотя в заглавии "Маскарада" выставлено то же имя, как на "Герое нашего времени", достоинство этих произведений совершенно различно 14 . Из этого осмелимся вывести правило: если хочешь быть последовательным, то смотри исключительно только на достоинство произведения и не стесняйся тем, хорошим или дурным находил ты прежде произведения того же самого автора; потому что одинаковы вещи бывают по существенному своему качеству, а не по клейму, наложенному на них.
От суждений об отдельных произведениях писателя мы должны перейти к общему суждению о значении всей литературной деятельности писателя. Последовательность, конечно, будет требовать: одинаково хвалить писателей, имеющих право на похвалу, и одинаково не хвалить не имеющих. С течением времени все изменяется; изменяется и положение писателей в отношении к понятиям публики и критики. Как же поступить, если справедливость потребует от журнала изменить суждение о писателе? Как, например, поступали "Отечественные записки"? Было время, когда они очень высоко ставили Марлинского и проч., и мы не хотим упрекать их за то: общее мнение об этих писателях было тогда таково; потом общественное мнение о тех же самых писателях изменилось, может быть, оттого, что прошел первый пыл, что ближе и хладнокровнее всмотрелись в их произведения; может быть, оттого, что они сами стали писать не лучше и лучше, а хуже и хуже; оттого, говоря техническим языком, что они "не оправдали надежд" (выражение, имеющее в нашем языке почти столь же обширное применение, как занемог, умер и т. п.); может быть, оттого, что другие писатели затмили их -- все равно, отчего бы то ни было, но мнение пришлось изменить, и оно было изменено 15 . Неужели последовательность требовала продолжать поклоняться Марлинскому и другим? Какая же последовательность была бы в журнале, который бы считал себя обязанным, сначала бывши ратником за лучшее в литературе, потом сделаться ратником за худшее только из привязанности к именам? Такой журнал изменил бы себе. Не говорим уже о том, что он лишился бы своего почетного места в литературе, потерял бы всякое право на сочувствие лучшей части публики, подвергся бы общему осмеянию наравне с своими клиентами. В самом деле, вообразим себе, что "Отечественные записки" в 1844 или 1854 году продолжали бы называть, как называли в 1839 году, лучшими нашими писателями авторов, признанных посредственными, какое место в литературе и журналистике было бы занимаемо этим журналом?
Мы осмелимся ожидать, что и в "Современнике" беспристрастными судьями будет почтено не виною, а -- не хотим говорить достоинством -- по крайней мере исполнением обязанности не отставать от мнения просвещенной части публики и требований справедливости, изменяющихся с течением времени, если "Современник", говоря о г. X или Z в апреле 1854 года, будет думать более о том, что по справедливости надобно сказать об этом писателе теперь, нежели заботиться о том, чтобы сколько возможно буквальнее переписать тот самый отзыв, который можно и должно было сделать о произведениях этого писателя в апреле 1853, 1852 или 1851 года. "Современник" надеется, что ему не поставят в вину равным образом и того, если последовательность понимает он как верность своим эстетическим требованиям, а не как слепую привязанность к стереотипным повторениям одних и тех же фраз о писателе, от самого его литературного отрочества до самой его литературной дряхлости. Что же делать, если писатель, "подававший надежды", заслуживавший симпатии лучшей части публики и ободрительных похвал критики, не "оправдал" надежд, потерял право на симпатию и похвалы? "Говори, что надобно сказать теперь, а не то, что надобно было говорить прежде", и если твои приговоры будут основаны на одних началах, ты будешь последователен, хотя бы сначала пришлось сказать тебе "да", а через год "нет". Совершенно другое дело, если приговор однажды произнесен на основании одних начал, а в другой раз на основании других -- тогда мы будем непоследовательны, хотя бы в оба раза сказали одно и то же (например: "один роман г-жи NN хорош, потому что в нем видна, сквозь экзальтацию, искренняя теплота чувства; стало быть, и другой роман г-жи NN хорош, хотя в нем видна только приторная экзальтация"). Но говорится, как мы видим, не об этой измене принципам, а просто о неодинаковости суждений о разных произведениях одних писателей. Такое внешнее разноречие не всегда тяжкая вина; иногда от него зависит даже самая последовательность и достоинство журнала. Но достоинство или недостаток -- изменение прежних приговоров сообразно изменению в достоинстве предметов, о которых произносится приговор, во всяком случае, ни недостатков, ни достоинств нельзя признавать за собою, не рассмотрев, до какой степени справедливо они приписываются нам. Взглянем же, как велика на самом деле разница между прежними и нынешними мнениями "Современника" о гг. Островском, Авдееве и г-же Тур; действительно ли она ставит "Современник" в "решительное противоречие с самим собою". Противоречие отзывов "Современника" о комедии г. Островского "Не в свои сани не садись" заключается в том, что Новый поэт, в апрельской книжке 1853 года, говорил:
"Комедия г. Островского имела блистательный и вполне заслуженный успех на двух сценах: петербургской и московской. В ней люди грубые, простые, необразованные, но с душой и с прямым здравым смыслом поставлены рядом с людьми полуобразованными. Автор очень ловко воспользовался этим контрастом. Как прекрасны эти мужики в своей простоте и как жалок этот промотавшийся Вихорев. Все это превосходно и в высшей степени верно действительности. Русаков и Бородкин -- это живые лица, взятые из жизни без всяких прикрас" 16 .
В февральской книжке 1854 года сказано 17:
"В двух своих последних произведениях г. Островский впал в приторное прикрашиванье того, что не может и не должно быть прикрашиваемо. Произведения вышли слабые и фальшивые".
Противоречие между этими отдельными выписками решительное; но оно совершенно сглаживается, если мы прочитаем их в связи с тем, что им предшествует в той и другой статье. Новый поэт рассматривает "Не в свои сани не садись" в отношении к другим произведениям нашего репертуара, говорит о превосходстве этой комедии перед другими, играющимися на Александрийской сцене комедиями и драмами 18 . Что касается до существенного достоинства "Не в свои сани не садись", Новый поэт, кажется, довольно ясно высказывает свое мнение, прибавляя:
"Но, несмотря на это, все-таки в художественном отношении эта комедия не может быть поставлена наряду с первою его комедиею ("Свои люди -- сочтемся"). Вообще, "Не в свои сани не садись" -- произведение, не выходящее из ряда обыкновенных талантливых произведений" 19 .
И так как статья из No II "Современника" нынешнего года 20 сравнивает эту комедию, "не выходящую из ряда обыкновенных произведений", с истинно замечательным первым произведением г. Островского, то, называя ее "слабою", эта статья, кажется нам, не впадает в противоречие с Новым поэтом, говорящим, что "Не в свои сани не садись" не может быть поставлено наряду с "Своими людьми". Одна сторона противоречия -- о художественном достоинстве комедии -- не существует. Остается другое противоречие: Новый поэт назвал Бородкина и Русакова "живыми лицами, взятыми из действительности, без всяких прикрас"; через год "Современник" говорит, что г. Островский впал (в комедиях "Не в свои сани не садись" и в "Бедность не порок") "в приторное прикрашиванье того, что не должно быть прикрашиваемо, и комедии вышли фальшивые". Здесь мы опять принуждены приняться за изложение элементарных начал и объяснить, во-первых, что в художественном произведении, общность которого проникнута самым фальшивым воззрением и которое поэтому до нестерпимости прикрашивает действительность, отдельные лица могут быть списаны с действительности очень верно и без всяких прикрас. Или не распространяться об этом? Ведь все согласны, что, например, так и случилось в "Бедность не порок": Любим Торцов, беспутный пьяница с добрым, любящим сердцем -- лицо, сходных с которым найдется в действительности очень много; а между тем "Бедность не порок" в целом -- произведение в высшей степени фальшивое и прикрашенное, и -- главным образом -- фальшивость и прикрашенность вносятся в эту комедию именно лицом Любима Торцова, которое, отдельно взятое, верно действительности. Это происходит оттого, что, кроме отдельных лиц, в художественном произведении бывает общая идея, от которой (а не от одних отдельных лиц) и зависит характер произведения. Есть такая идея и в "Не в свои сани не садись", но она еще довольно ловко прикрыта искусною обстановкою и потому не была замечена публикою: замечавшие фальшивость идеи в этой комедии надеялись (из любви к прекрасному таланту автора "Своих людей"), что эта идея -- мимолетное заблуждение автора, может быть, даже неведомо от самого художника вкравшееся в его произведение; потому и не хотели говорить об этой прискорбной стороне без крайней необходимости; 21 a необходимости не было, потому что идея, искусно спрятанная под выгодною обстановкою (противопоставлением Русакова и Бородкина Вихореву, пустейшему негодяю), не была замечена почти никем, не произвела впечатления и, следовательно, не могла еще иметь влияния; изобличать ее, казнить ее не было поэтому никакой еще надобности. Но вот явилась "Бедность не порок"; фальшивая идея смело сбросила всякое прикрытие более или менее двусмысленною обстановкою, явилась твердым, постоянным принципом автора, была шумно провозглашена за животворную истину, была замечена всеми и, если не ошибаемся, произвела очень сильное неудовольствие во всей здравомыслящей части общества 22 . "Современник" почувствовал обязанность обратить внимание на эту идею и дать, по мере возможности, выражение общему чувству. Заговорив о идее "Бедность не порок", "Современник" считал нелишним сказать два-три слова о прежних произведениях автора и, само собою разумеется, должен был сказать, что "Не в свои сани не садись" была предшественником "Бедность не порок", чего, конечно, не будет ныне отрицать никто; идея "Не в свои сани не садись", теперь объясненная для всех читателей последнею комедиею г. Островского, уже не могла быть пройдена молчанием, как это возможно было прежде, когда она не имела никакого значения для публики, и -- к прежнему отзыву о верности некоторых лиц комедии (чего и не думал отрицать разбор "Бедность не порок") пришлось прибавить, что идея комедии фальшива.
Что касается до отзывов "Современника" о г. Авдееве и г-же Тур, то противоречие исчезает даже без всяких объяснений -- стоит только сличить мнимопротиворечащие отзывы. "Современник" находил изрядным роман г-жи Тур "Племянницу" и находит дурным через три года написанный ею роман "Три поры жизни", ни слова не говоря о других произведениях этой писательницы; где же тут противоречие? Выписки из последнего отзыва не представляем по решительной ненужности ее для объяснения дела; просмотрев No V "Современника" за нынешний год, читатели могут убедиться, что наша рецензия последнего романа не говорит ни одного слова о "Племяннице", "Долге", "Ошибке" и потому не может никаким образом противоречить какому бы то ни было отзыву об этих произведениях. Остается только попросить читателей взглянуть на статью о "Племяннице" (No I "Современника" за 1852 г.): просмотрев ее, читатели увидят, как много и тогда уже "Современник" принужден был говорить о недостатках таланта г-жи Тур; правда, в этой статье сказано, что есть сходство между хорошими сторонами таланта г-жи Тур и талантом г-жи Ган и что "блестящие надежды, возбужденные г-жою Тур, оправдались настолько, что перестали быть надеждами и сделались достоянием нашей литературы", но эти похвалы (более снисходительные и деликатные, нежели положительные, как убеждает весь тон статьи) далеко перевешиваются местами, подобными следующему:
"У нее (г-жи Тур), по поводу истин, всем известных, является тон полувосторженный, полупоучительный, как будто она сама только что их открыла, но и это может статься. Но и это можно извинить. Таланта, того независимого таланта, о котором мы говорили в начале статьи, в г-же Тур или нет, или очень мало; ее талант лирический... неспособный создавать самостоятельные характеры и типы. Слог г-жи Тур небрежен, речь ее болтлива, почти водяниста... Неприятно нам было встретить на иных страницах "Племянницы" следы реторики, что-то такое, от чего пахло "Собранием образцовых сочинений", какие-то претензии на сочинительство, на литературные украшения" ("Современник", 1852 г., No 1 , Критика, статья г. И. Т.) 23 .
Спрашиваем, что к этим упрекам прибавлено нового в отзыве о "Трех порах жизни"? Ровно ничего; вместо обвинения в противоречии, скорее можно было обвинять рецензента этого последнего романа в том, что он слишком пропитался статьею г. И. Т. Правда, рецензент не мог повторить тех похвал, которыми смягчены упреки в статье г. И. Т., но что же делать? Достоинства "Племянницы" померкли до незаметности, а недостатки развились до крайности в "Трех порах жизни".
Но более всего "Отечественные записки" недовольны отзывом "Современника" о сочинениях г. Авдеева ("Современник", 1854, No 2) 24 . Этим отзывом "Современник" стал в "самое странное противоречие с самим собою, потому что (признаемся, это "потому что" очень трудно понять) теперь "Современник" говорит, что у г. Авдеева замечательный талант рассказчика", а прежде "причислял г. Авдеева к нашим лучшим повествователям", именно: в 1850 году говорил:
"В первых произведениях г. Авдеева найдем явные признаки таланта (доса д ная осторожность! почему бы не сказать "блестящий талант"? нет, только "пр и знаки" его). Лучшим доказательством, что г. Авдеев силен не одною подражательною способностью (а! так уж и до 1850 года находили, что г. Авдеев пока силен только подражательною способностью!), послужила идиллия г. Авдеева "Ясные дни". Эта повесть очень мила, в ней много теплого, искреннего чувства (а ясности понятий о мире и людях много? Вероятно, нет, если это достоинство не выставлено на вид, -- о рецензия, которою недовольны "Отечественные записки", нападает на этот недостаток). Прекрасный язык, которым постоянно пишет г. Авдеев, вероятно, замечен самими читателями" 25 .
Попросим читателя просмотреть разбор, который будто бы противоречит этому отзыву,-- и мы не знаем, найдут ли читатели, не говорим, противоречия, а хоть какое-нибудь разногласие в нем с этою выпискою из прежнего отзыва. Прежде "Современник" причислял г. Авдеева к лучшим нашим повествователям,-- но и последняя рецензия начинается именно словами: "Г. Авдеев милый, приятный рассказчик" и т. д. в этом роде; на следующей странице (41-й) опять читаем: "Г. Авдеев -- полная честь ему за это -- хороший, очень хороший рассказчик"; после многократных повторений той же фразы кончается рецензия словами (стр. 53): "он обнаружил несомненный талант рассказчика"... и предположением, что, при соблюдении известных условий, "он даст нам много истинно прекрасного" (самые последние слова рецензии). Прежний отзыв говорит, что в "Ясных днях" нет подражания -- и последняя рецензия не думает подвергать этого сомнению; прежний отзыв не думает отрицать, что "Тамарин" подражание; и последняя рецензия доказывает это; прежний отзыв видит в "Ясных днях" теплоту чувства -- и последняя рецензия не подвергает это ни малейшему сомнению, называя лица этой идиллии "любимцами" г. Авдеева, людьми, ему "милыми". Нам кажется, что противоречия во всем этом нет ни капли. Нам кажется даже, что скорее можно обвинить последнюю рецензию в слишком щепетильном изучении прежних отзывов, точно так же, как можно обвинить и разбор романа г-жи Тур "Три поры жизни" в слишком близком сходстве с статьею г. И. Т. о "Племяннице".
Одним словом, всякий, кто внимательно сличит с прежними отзывами "Современника" рецензии, которыми так недовольны иные, найдет между этими рецензиями и прежними отзывами не противоречие, а самую обыкновенную между статьями одного и того же журнала одинаковость во взгляде. И хотя очень приятно было бы "Современнику" как можно чаще давать своим читателям статьи, отличающиеся новостью взгляда, но он должен признаться, что этим-то именно достоинством всего менее отличаются рецензии, вызвавшие неудовольствие. И мы свое элементарное изложение понятий о последовательности должны заключить ответом, какой делали в свое время сами "Отечественные записки" на подобные неудовольствия против них за новизну будто бы мнений о значении разных знаменитостей нашей литературы, именно: "мнения, о которых идет речь, "не новы и не оригинал ь ны" 26 ,-- особенно для читателей "Современника". Чем же они могли привлечь ни себя нерасположение?" Неужели тем, что высказаны прямо, без обиняков, недомолвок и оговорок? Не тем ли, что, сказав: "Тамарин" -- подражание", мы не прибавили, по обыкновению, укореняющемуся с некоторого времени в нашей критике: "впрочем, мы этим не хотим сказать, что г. Авдеев в "Тамарине" был подражателем; мы находим в этом романе много самостоятельного и с тем вместе прекрасного", и т. д.; сказав: "Три поры жизни" -- экзальтированный роман без всякого содержания", не прибавили: "впрочем, в нем очень много светлого и спокойного понимания жизни и еще больше многозначительных идей, свидетельствующих о том, что автор недаром думал о многом"? и не тем ли, что не прибавили к этому общих мест о "несомненных дарованиях", о том, что разбираемые книги "составляют отрадное явление в русской литературе", и т. д. Если так, то ответ на это уже есть готовый в "Отечественных записках": "В нашей критике заметно владычество общих мест, литературное низкопоклонничество живым и мертвым, лицемерство в суждениях. Думают и знают одно, а говорят другое" 27 . Напомнив это место, мы перейдем к изложению "самых простых и обыкновенных понятий" о том, что такое критика и до какой степени она должна быть уклончива и может обходиться без прямоты,-- перейдем к учению о том, до какой степени хорошо делает критика, когда, по выражению "Отечественных записок", говорит "голосом обезоруживающим", даже при несправедливости, своею смиренностью 2S .
Полемическая форма в нашей статье -- только средство заинтересовать сухим и слишком незамысловатым предметом тех, которые не любят сухих предметов, как бы они важны ни были, и считают ниже своего достоинства обращать хоть от времени до времени к размышлению о простых вещах свое внимание, постоянно занятое "живыми и важными" вопросами искусства (например, о том, как велико достоинство какого-нибудь дюжинного романа). Теперь мы можем оставить эту форму, потому что читатель, пробежавший более половины статьи, вероятно, не оставит без внимания и ее окончания. Мы будем прямо излагать основные понятия, напомнить о которых мы считали нужным.
Критика есть суждение о достоинствах и недостатках какого-нибудь литературного произведения. Ее назначение -- служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе. Само собою разумеется, что эта цель может быть достигаема сколько-нибудь удовлетворительным образом только при всевозможной заботе о ясности, определенности и прямоте. Что за выражение общественного мнения -- выражение обоюдное, темное? Каким образом даст критика возможность познакомиться с этим мнением, объяснить его массе, если сама будет нуждаться в пояснениях и будет оставлять место недоразумениям и вопросам: "да что же вы думаете в самом-то деле, г. критик? да в каком же смысле надобно понимать то, что вы говорите, г. критик?" Поэтому критика вообще должна, сколько возможно, избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и темных намеков и всех тому подобных околичностей, только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; 29 эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика. Следствия уклончивых и позолоченных фраз всегда были и будут у нас одинаковы: сначала эти фразы вводят в заблуждение читателей, иногда относительно достоинства произведений, всегда относительно мнений журнала о литературных произведениях; потом публика теряет доверие к мнениям журнала; и потому все наши журналы, желавшие, чтобы их критика имела влияние и пользовалась доверием, отличались прямотою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хорошем смысле) своей критики, называвшей все вещи -- сколько то было возможно -- прямыми их именами, как бы жестки ни были имена. Приводить примеры считаем излишним: одни в памяти у всех, другие мы напомнили, говоря о старых разборах сочинений Погорельского. Но как же надобно судить о резкости тона? Хороша ли она? даже позволительна ли она? Что отвечать на это? c"est selon {В зависимости от обстоятельств (фр.). -- Ред. }, каков случай и какова резкость. Иногда без нее не может обойтись критика, если хочет быть достойною имени живой критики, которую, как известно, может писать только живой человек, то есть способный проникаться и энтузиазмом, и сильным негодованием,-- чувства, которые, как тоже всем известно, изливаются не в холодной и вялой речи, не так, чтобы никому от их излияния не было ни тепло, ни холодно. Примеры указывать опять считаем излишним уже и потому, что у нас есть пословица: "кто старое вспомянет, тому глаз вон". А для осязательного доказательства, как необходима иногда бывает в живой критике резкость тона, предположим такой случай (еще не из самых важных). Та манера писать, которая была изгнана из употребления едкими сарказмами дельной критики, начинает опять входить в моду вследствие различных причин, между прочим, и ослабления критики, быть может, уверенной, что цветистое пустословие не может оправиться от нанесенных ему ударов. Вот опять, как во времена Марлинского и Полевого, появляются на свет, читаются большинством, одобряются и ободряются многими литературными судьями произведения, состоящие из набора реторических фраз, порожденные "пленной мысли раздраженьем" 30 , ненатуральною экзальтациею, отличающиеся прежнею приторностью, только с новым еще качеством -- шаликовскою грациозностью, миловидностью, нежностью, мадригальностью; появляются даже какие-то новые "Марьины рощи" с Усладами; 31 и эта реторика, оживши в худшем виде, опять угрожает наводнить литературу, вредно подействовать на вкус большинства публики, заставить большинство писателей опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь, как существенных достоинствах литературного произведения. Предположив такой случай (а бывают еще более горькие), спрашиваем: обязана ли критика вместо изобличений писать мадригалы этим хилым, но опасным явлениям? или она может поступать в отношении к новым болезненным явлениям так, как в свое время было поступаемо относительно подобных явлений, и без околичностей говорить, что в них нет ничего хорошего? Вероятно, не может. Почему нет? Потому что "талантливый автор не мог написать дурного сочинения". Да разве Марлинский был талантлив менее нынешних эпигонов? Разве "Марьину рощу" написал не Жуковский? А скажите, что хорошего в "Марьиной роще"? И за что можно похвалить произведение без содержания или с дурным содержанием? "Но оно написано хорошим языком". За хороший язык можно было прощать жалкое содержание тогда, когда главною потребностью нашей литературы было выучиться писать не тарабарским языком. Восемьдесят лет тому назад было особенною честью для человека знание орфографии; и действительно, тогда кто умел ставить на месте букву ѣ, тот по справедливости мог назваться образованным человеком. Но не совестно ли было бы теперь знание правописания ставить в особенную заслугу кому-нибудь, кроме Мити, выведенного г. Островским? 32 Писать дурным языком -- теперь недостаток; уменье писать недурно теперь не составляет особенного достоинства. Припомним выписанную нами в статье о Погорельском фразу "Телеграфа": "Неужели за то прославляют "Монастырку", что она гладенько написана?" 33 -- и оставим составителю. "Памятного листка ошибок в русском языке" приятную и многотрудную обязанность выдавать похвальные листы за искусство писать удовлетворительным языком 34 . Эта раздача отняла бы слишком много времени у критика, да и вовлекла бы в слишком большие расходы на бумагу: сколько стоп потребовалось бы для похвальных листов, если награждать всех достойных?
Возвратимся, однако, к вопросу о резкости отзывов. Позволительна ли неподслащенная прямота осуждения, когда дело идет о произведении "известного" писателя? -- Неужели вы хотите, чтобы позволялось "нападать разве уже на самого круглого и беззащитного сироту"? Разве во всеоружии бранном, с калеными стрелами сарказма идти на бой против какого-нибудь бедного Макара, на которого все шишки валятся? Если так, отдайте же свое критическое кресло тем гоголевским господам, которые "хвалят Пушкина и с остроумными колкостями говорят об А. А. Орлове" 35 . -- Да, виноваты; мы начали писать неясно и неубедительно; мы позабыли о своем намерении -- всегда начинать с самого начала. Пополняем опущение. Критика, достойная своего имени, пишется не для того, чтобы господин критик щеголял остроумием, не для того, чтобы доставить критику славу водевильного куплетиста, возвеселяющего публику своими каламбурцами. Остроумие, едкость, желчь, если ими владеет критик, должны служить ему орудием для достижения серьезной цели критики -- развития и очищения вкуса в большинстве его читателей, должны только давать ему средство соответственным образом выражать мнения лучшей части общества. А разве общественное мнение интересуется вопросами о достоинстве писателей, никому не известных, никем не почитаемых за "прекрасных писателей"? Разве лучшая часть общества возмущается тем, что какой-нибудь ученик Федота Кузмичева или А. А. Орлова написал новый роман в четырех частях по пятнадцать страничек каждая? Разве "Любовь и верность" или "Страшное место" (см. Библиографию этой книжки "Современника"), или "Похождения Георга милорда английского" портят вкус публики? 36 Если хотите, изощряйте и над ними свое остроумие, но помните, что вы занимаетесь в таком случае "журнальным пересыпаньем из пустого в порожнее", а не критикою. "Но строгим осуждением может огорчиться автор" 37 -- это другое дело; если вы человек, не любящий огорчать ближнего, то не нападайте уже ни на кого, потому что и малоизвестного автора столько же, сколько самого знаменитого, огорчит указание недостатков его литературного детища. Если вы думаете, что говорить кому-нибудь неприятное нельзя ни в каком случае, ни для какого блага, то положите на уста ваши палец молчания или откройте их затем, чтобы доказывать, что всякая критика вредна, потому что всякая кого-нибудь огорчает. Но не торопитесь осуждать безусловно всякую критику. Каждый согласится, что справедливость и польза литературы выше личных ощущений писателя. А жар нападения должен быть соразмерен степени вреда для вкуса публики, степени опасности, силе влияния, на которые вы нападаете. Следовательно, если перед вами два романа, отличающихся фальшивою экзальтациею и сантиментальностью, и один из них носит имя неизвестное, а другой -- имя, пользующееся весом в литературе, то на который вы должны напасть с большею силою? На тот, который более важен, то есть вреден для литературы. Перенесемся за шестьдесят лет назад. Вы немецкий критик. Перед вами лежит превосходная в художественном отношении, но приторная "Hermann und Dorothea" {"Герман и Доротея" (нем.). -- Ред. } Гёте и какая-нибудь другая идиллическая поэма какого-нибудь посредственного писаки, довольно складно написанная и столько же приторная, как "художественно-прекрасное создание" великого поэта. На которую из этих двух поэм должны вы напасть со всем жаром, если вы считаете (как всякий умный человек) приторное идеальничанье очень вредною для немцев болезнью? И которую поэму вы можете разобрать уступчивым, мягким и, может быть, даже ободрительным тоном? Одна из них пройдет незамеченною, безвредною, несмотря на ваш уступчивый отзыв; другая вот уже пятьдесят семь лет восхищает немецкую публику. Очень хорошо поступили бы вы, если б, бывши немецким критиком шестьдесят лет тому назад, излили всю желчь негодования на эту вредную поэму, отказались бы на время слушаться мягких внушений вашего глубокого уважения к имени того, кто был славою немецкого народа, не побоялись бы упреков в запальчивости, в опрометчивости, в неуважении к великому имени и, холодно и коротко сказав, что поэма написана очень хорошо (на это найдутся сотни перьев и кроме вашего), как можно яснее и резче напали бы на вредную сантименталыюсть и пустоту ее содержания, постарались бы, насколько сил ваших достает, доказать, что поэма великого Гёте жалка и вредна по содержанию, по направлению. Говорить о произведении Гёте таким образом было бы, конечно, нелегко для вас: и вам самим горько восставать на того, кого хотели бы вы вечно прославлять, и дурно подумают о вас многие. Но что же делать? Того требует от вас обязанность.
Какой патетический тон! мы забыли, что Гёте между нашими литераторами давно уже не отыскивалось, следовательно, русской современной критике приходится говорить только о таких писателях, которые более или менее близки к простым смертным, и, вероятно, геройской решимости вовсе не нужно для того, чтобы осмелиться, когда кто-нибудь из них напишет плохое произведение, назвать произведение плохим без всяких околичностей и оговорок, а когда кто-нибудь выскажет это мнение, то не огорчаться его ужасным дерзновением.
Потому нам кажется, что если находить недостатки, напр., в рецензии "Современника" о "Трех порах жизни", то надобно было бы выставлять на вид не то, что знаменитый автор этого романа стоит выше критики, а, напротив, разве уже то, что едва ли стоило много толковать о такой книге, которой, по всей вероятности, вовсе не суждено наделать шуму в публике. И нам кажется, что читатели могли быть не совсем довольны нашею длинною рецензиею за ее длинноту; они могут думать, что было бы гораздо лучше и было бы совершенно достаточно ограничиться двумя-тремя словами, напр., хоть только теми, которые выписывают "Отечественные записки" (в "Трех порах" нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, представляющая все как раз навыворот против того, как бывает на белом свете. Над всем этим господствует неизмеримая пустота содержания); но "Современник" вовсе не потому и распространялся об этом романе, что роман сам по себе стоит большого внимания,-- нам казалось, что он заслуживает некоторого внимания как один из многих подобных ему аффектированных романов, число которых размножилось в последнее время очень заметно. Что входит в моду, то должно подвергнуться ближайшему рассмотрению уже по этому обстоятельству, хотя бы и не заслуживало того по своему существенному значению. И это подает нам случай пожалеть о том, что в последние годы наша литература развивалась слишком медленно; а как значительно бывало прежде развитие ее в течение пяти-шести лет! Но, скажите, на много ли ушла она вперед со времени появления "Племянницы", "Тамарина" и особенно прекрасного произведения г. Островского "Свои люди -- сочтемся"? И по этому-то самому застою литературы суждения "Современника" о г. Авдееве и г-же Тур в 1854 году не могли значительно разниться от мнений его об этих писателях в 1850 году. Мало изменилась литература, мало изменилось и положение писателей в литературе.
А все-таки застой в литературе был не совершенный -- некоторые писатели (например, г. Григорович, с которым иные продолжают ставить наряду г. Авдеева, как ставили прежде) двинулись вперед, заняли в литературе гораздо более видное место, нежели в 1850 году; 38 другие, например, г-жа Тур, еще значительнее подвинулись назад; третьи, немногие, как г. Авдеев, остались совершенно на прежнем месте; следовательно, прежние ряды уже расстроились, образовались новые. И теперь для всякого читателя показалось бы смешно, если бы стали ставить наряду, например, с г. Григоровичем г. Авдеева и тем более г-жу Тур. До некоторой степени понятия об этих последних изменились. И разве (будем говорить только о г. Авдееве), разве каждый читатель не скажет теперь, что при появлении первых произведений г. Авдеева должно было надеяться от него гораздо большего, нежели до сих пор он мог произвести? Разве не всякий говорит, что до сих пор он "еще не оправдал надежд"? а прошло уже лет пять или шесть, он написал уже пять или шесть повестей, пора было бы оправдать эти надежды. И если от него надобно действительно ожидать чего-нибудь лучшего (надежда, которую мы разделяем и которую выразили в своей статье), то не пора ли, не давно ли уже пора обратить внимание "действительно даровитого" рассказчика на то, что до сих пор он еще ничего не сделал для упрочения своей известности? Когда он издает все свои произведения за пять или шесть лет, не должно ли обратить его внимание на существенные недостатки всех его произведений (отсутствие мысли и безотчетность, с какою разливает он свое теплое чувство)? К счастию, исправить эти недостатки "он может, если ему будет угодно" (счастливое выражение!) 39 , потому-то и надобно яснее выставить их ему на вид -- это может быть небесполезным. Другое дело коренная испорченность (истинного или предполагаемого?) таланта -- этому едва ли можно пособить, как ни указывай недостатки; потому-то в одной из трех рецензий (не о "Тамарине" или "Бедность не порок"), о которых идет речь, "Современник" и не высказал никаких надежд. Но недостатки, которыми страждет талант г. Авдеева, могут исчезнуть, если он этого серьезно захочет, оттого что лежат не в сущности его дарования, а в отсутствии тех необходимых для плодовитого развития таланта качеств, которые не даются природою, как дается талант; которые даются иному тяжелым опытом жизни, иному наукою, иному обществом, в котором он живет; на эти условия "Современник" старался обратить внимание г. Авдеева всею своею рецензиею и по возможности ясно высказал их в конце 40 . Жалеем, что не можем начать толковать о них здесь, отчасти уже и потому, что это значило бы повторять сказанное очень еще недавно. Но все толки об этих "простых и обыкновенных понятиях, о каких уже не толкуют ни в одной литературе", приводят нас к тому, чтобы сказать два-три слова о том, что такое "мысль" -- понятие, приводящее в недоумение некоторых, конечно, очень немногих, и о котором поэтому считаем достаточным сказать только два-три слова, не распространяясь относительно предмета столь общеизвестного.
"Что такое "мысль" в поэтическом произведении?" Как бы это объяснить просто и коротко? Вероятно, всякому случалось замечать разницу между людьми, разговор которых приходилось ему слышать. Просидишь два часа с иным человеком -- и чувствуешь, что провел время недаром; находишь по окончании беседы, что или узнал что-нибудь новое, или стал яснее смотреть на вещи, или стал больше сочувствовать хорошему или живее оскорбляться дурным, или чувствуешь побуждение подумать о чем-нибудь. После иной беседы ничего такого не бывает. Поговоришь, кажется, столько же времени и, кажется, о тех же самых предметах, только с человеком другого разбора,-- и чувствуешь, что из его рассказов не вынес ровно ничего, все равно, как будто бы занимался с ним не разговором, а пусканьем мыльных пузырей, все равно, как будто бы и не говорил. Неужели надобно объяснять, почему это так? потому, что один собеседник либо человек образованный, либо человек, видавший многое на своем веку и видавший не без пользы для себя, "бывалый" человек, либо человек, призадумывавшийся над чем-нибудь; а другой собеседник -- то, что называется "пустой" человек. Неужели должно пускаться в доказательства и объяснения, что книги разделяются на такие же два разряда, как и разговоры? Одни бывают "пустые",-- иногда с этим вместе и надутые,-- другие "непустые"; и вот о непустых-то и говорится, что в них есть "мысль". Мы думаем, что если позволительно смеяться над пустыми людьми, то, вероятно, позволительно смеяться и над пустыми книгами; что если позволительно говорить: "не стоит вести и слушать пустых разговоров", то, вероятно, позволительно и говорить: "не стоит писать и читать пустых книг".
Прежде постоянно требовалось от поэтических произведений "содержание"; наши нынешние требования, к сожалению, должны быть гораздо умереннее, и потому мы готовы удовлетвориться даже и "мыслью", то есть самым стремлением к содержанию, веянием в книге того субъективного начала, из которого возникает "содержание". Впрочем, быть может, надобно объяснять, что такое "содержание"? Но мы ведь пишем о многотрудных вопросах, а ученые трактаты не могут обходиться без цитат. Потому напомним слова "Отечественных записок":
"Иной, пожалуй, скажет, что эти слова употреблялись еще в "Вестнике Европы", в "Мнемозине", в "Атенее" и проч., были всем понятны назад тому лет двадцать и не возбуждали ничьего ни удивления, ни негодования. Увы! что делать! До сих пор мы жарко верили ходу вперед, а теперь приходится нам поверить движению назад" 41 .
Хуже всего в этом отрывке то, что он совершенно справедлив. Поэтому жалеем, что "Обыкновенная история" и "Тамарин" или "Ясные дни" явились не за двадцать лет назад: тогда поняли бы, какое огромное различие между этими произведениями. Поняли бы, конечно, и то, что в основании драмы г. Потехина "Гувернантка" (то есть "Брат и сестра"?) лежит мысль фальшивая и аффектированная, как это, впрочем, уже и было доказано "Современником" 42 .
Возвратимся, однако, опять к "резкости" тона. Мы говорили, что во многих случаях это единственный тон, приличный критике, понимающей важность предмета и не холодно смотрящей на литературные вопросы. Но мы также сказали, что резкость бывает разных родов, и до сих пор говорили только об одном случае,-- том, когда резкость тона происходит оттого, что мысль справедливая выражается прямо и по возможности сильно, без оговорок. Другое дело -- неразборчивость в словах; ее, разумеется, нехорошо позволять себе, потому что быть грубым значит забывать собственное достоинство. Мы не думаем, чтобы в этом могли упрекнуть нас, потому что вот каково самое жесткое из выражений, подчеркнутых за "нецеремонность, далеко нефешёнэбльную":
"Тамарин" заставил нас ожидать от г. Авдеева нового и лучшего, показав в нем способность к развитию; но ни одна из его изданных до сих пор повестей не может еще назваться произведением человека мыслящего".
Едва ли эти слова осудят и гоголевские дамы, говорящие: "обойтись посредством платка"; 43 но уже ни в каком случае не должен "поражаться" ими тот, кто сам тут же позволяет себе выражения, гораздо менее фешёнэбльные. Да, нехорошо быть неразборчивым на слова; но все еще это гораздо простительнее, нежели позволять себе темные намеки, заподозревающие искренность того, кем вы недовольны. Их мы не советовали бы употреблять никому, оттого что они, именно по своей темноте, прилагаются ко всему; и если, например, "Отечественные записки" намекнут, что "Современник" несправедлив к г. Авдееву и г-же Тур потому, что произведения этих писателей не печатаются более в "Современнике", то как легко (удержимся от других намеков) объяснить этот намек такою фразою: "Отечественным запискам" мнения "Современника" о г. Авдееве и г-же Тур кажутся несправедливыми потому, что эти авторы печатают ныне свои произведения в "Отечественных записках". Но лучше оставить все подобные мелочи, решительно смешные: неужели "Отечественные записки" перестали хвалить г. Бенедиктова потому, что произведения этого поэта, украшавшие первые нумера журнала, потом перестали появляться в "Отечественных записках"? 44 Неужели не ясно для всякого, что могло не быть между этими фактами никакой связи, что, наконец, дело могло быть и наоборот? Оставим это. Критика не должна быть "журнальною перебранкою"; она должна заняться делом более серьезным и достойным -- преследованием пустых произведений и, сколько возможно, обличением внутренней ничтожности и разладицы произведений с ложным содержанием.
И в каком бы журнале ни встречал "Современник" критику с подобным стремлением, он всегда рад встречать ее, потому что потребность в ней действительно сильна.
Примечания
Впервые -- "Современник", 1854, т. XLVI, No 7, отд. III, с. 1--24 (ц. р. 30 июня). Без подписи. Рукопись и корректура не сохранились.
Статья Чернышевского -- развернутое теоретическое обоснование задач, принципов, метода революционно-демократической критики, полемически направленное против "умеренной", измельчавшей критики 1850-х годов, которая в лице С. Дудышкина, А. Дружинина, В. Боткина начала борьбу с литературными традициями Белинского.
Ближайшим поводом к написанию статьи явилась заметка С. Дудышкина "Критические отзывы "Современника" о произведениях г. Островского, г-жи Евгении Тур и г. Авдеева" ("Отечественные записки", 1854, No 6, отд. IV, с. 157--162). Имея в виду статьи Чернышевского (см. в наст. т.), Дудышкин обвинял его в резкости, прямолинейности оценок, противоречащих прежним отзывам журнала об этих писателях.
Чернышевский, переадресуя рецензенту "Отечественных записок" упрек в непоследовательности и разъясняя смысл "истинной критики", восстанавливает актуальное значение литературно-теоретических идей и метода критики Белинского. Само название статьи Чернышевского как бы содержало напоминание об одной из важнейших "заповедей" Белинского, ратовавшего за "искренность", "самобытность", "независимость" критических мнений.
Статья Чернышевского вызвала ожесточенные нападки со стороны либерально-эстетических критиков. С. Дудышкин, повторив свою прежнюю аргументацию о непоследовательности "Современника", назвал ответ Чернышевского "длинным", "сбивчивым" и "темным" ("Отечественные записки", 1854, No 8, отд. IV, с. 91); Н. Страхов в неопубликованном письме в редакцию "Современника", одобрив отрицательное отношение Чернышевского к литературной критике 50-х годов, вместе с тем не принял его положительной программы: "Не согласен почти ни с одним мнением критика" (цит. по работе М. Г. Зельдовича "Неизвестный отклик на статью Чернышевского "Об искренности в критике". -- В кн.: "Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы", вып. 6. 1971, с. 226). Выступление Чернышевского поддержали редакторы "Современника" Некрасов и И. Панаев. В редакционном объявлении об издании журнала в 1855 г. говорилось: "Мы намерены идти тем же путем и на будущее время, заботясь по крайней мере, если трудно достигнуть большего, об искренности суждений..." ("Современник", 1854, т. XLVII, No 9, с. 5).
1 Цитата из статьи Чернышевского "Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского. Издание А. Смирдина. Два тома. СПб., 1853" (Чернышевский, т. II, с. 381--388).
2 Речь идет о редакторе "Московского телеграфа" (1825--1834 гг.) Н. А. Полевом. Развернутая исторически конкретная характеристика Н. Полевого и его роли в истории литературной критики дана Чернышевским в "Очерках гоголевского периода русской литературы" (1855--1856).
3 Умеренная и спокойная критика -- выражение С С. Дудышкина (см.: "Отечественные записки", 1854, No 6, отд. IV, с. 157).
4 В отзывах С. Дудышкина (в обзоре "Журналистика") на роман Д. Григоровича "Рыбаки" (1853) Чернышевского, очевидно, не удовлетворяла содержащаяся там трактовка этого произведения как поэтизации крестьянской "покорности и полного примирения с скромной долей, определенной провидением" ("Отечественные записки", 1853, No 10, отд. V, с. 121). По мвению критика-демократа, гуманистический пафос произведений писателя, посвященных изображению крестьянского быта, в том числе и "Рыбаков", заключался в утверждении нравственного достоинства и духовного богатства "простолюдина" (см.: "Заметки о журналах. Август 1856 года". -- Чернышевский, т. III, с. 689--691).
5 Неточная цитата из басни И. А. Крылова "Воспитание Льва" (1811).
6 Цитата из рецензии С. Дудышкина "Умная женщина", повесть г-жи Т. Ч." -- "Библиотека для чтения", No X и XI ("Отечественные записки", 1853, No 12, отд. V, а 134).
7 Цитата из рецензии "Путевые заметки. Повести Т. Ч., вып. I, изд. 2, СПб., 1853" ("Отечественные записки", 1854, No 1, отд. V, с. 5-6).
8 Имеются в виду следующие рецензии С. Дудышкина: "Леший", рассказ г. Писемского и четыре стихотворения г. Фета" ("Отечественные записки", 1854, No 2, отд. IV, с. 98--101); "Стихотворения гг. Фета и Некрасова" (там же, No 3, отд. IV, с. 36--40); "Мелочи жизни" г. Станицкого (там же, No 5, отд. IV, с. 57--58).
9 Цитата из рецензии "Три поры жизни", роман Евгении Тур. 1854. Три части" (там же, с. 1--8).
10 Слова Белинского из статьи "Русская литература в 1840 году" (Белинский, т. IV, с. 435).
11 Цитата из "Романса" Н. Ф. Павлова {1830), в 1838 г. положенного на музыку Ю. А. Копьевым. Позже музыку к этому романсу писали В. Н. Всеволожский и А. Н. Верстовский.
12 Слова Белинского из статьи "Русская литература в 1840 году". Курсив Чернышевского (Белинский, т. IV, с. 437).
13 Выписка из заметки С. Дудышкина "Критические отзывы "Современника" о произведениях г. Островского, г-жи Евгении Тур и г. Авдеева". В ней автор ссылается на статью И. С. Тургенева (И. Т.) "Племянница". Роман, соч. Евгении Тур. 4 части. Москва, 1851" ("Современник", 1852, т. XXXI, No 1, отд. III, с. 1--14), статью В. П. Гаевского "Обозрение русской литературы за 1850 год. Романы, повести, драматические произведения, стихотворения" ("Современник", 1851, т. XXV, No 2, отд. III, с. 65), в которой Авдеев был поставлен в один ряд с Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Тургеневым. Под названием "История моего детства" ("Современник", 1852, т. XXXV, No 9) была напечатана повесть Л. Толстого "Детство".
14 Очевидно, "Маскарад", о котором Чернышевский не упоминал ни до появления статьи "Об искренности в критике", ни в дальнейшем, казался ему своеобразным исключением из реалистического творчества Лермонтова.
15 В "Отечественных записках" неоднократно печатались в высшей степени положительные отзывы о произведениях Марлинского (1839, No 1, отд. VII, с 17--18; No 2, отд. VII, с. 119; No 3, отд. VII, с. 7). Уничтожающей критике подверг творчество этого писателя Белинский в статье "Полное собрание сочинений А. Марлинского" (1840), отметив, что в его рассказах и повестях господствуют "неистовые страсти", "блестящая реторическая мишура", "красивые, щегольские фразы" (Белинский, т. IV, с. 45, 51).
16 Чернышевский соединяет в одну цитату разные предложения из "Заметок и размышлений Нового поэта (И. И. Панаева) по поводу русской журналистики. Март 1853" ("Современник", 1853, т. XXXVIII, No 4, отд. VI, с. 262, 263, 266).
17 Чернышевский ошибся: его статья "Бедность не порок". Комедия А. Островского, Москва. 1854", откуда и приводится цитата, была опубликована в пятом номере "Современника" за 1854 г. В февральской же книжке "Современника" напечатана статья "Роман и повести М. Авдеева".
18 О превосходстве комедии А. Островского "Не в свои сани не садись" по сравнению с пьесами других авторов нз репертуара Александрийского театра писал не И. Панаев, а М. В. Авдеев в "Письмах "пустого человека" в провинцию о петербургской жизни". "Письмо четвертое" ("Современник", 1853, т. XXXVIII, No 3, отд. VI, с. 193-203).
19 Цитата из "Заметок и размышлений Нового поэта по поводу русской журналистики. Март 1853" (там же, No 4, отд. VII, с. 266).
20 То есть статья Чернышевского "Бедность не порок".
21 Чернышевский, очевидно, имеет в виду сдержанную оценку пьесы Островского "Не в свои сани не садись" в своей статье "Бедность не порок" (см. наст. т., с. 55). См. также отзыв П. Н. Кудрявцева в обзоре "Журналистика", который определил основную мысль пьесы как "идею нравственного превосходства необразованного быта над... образованным". Однако о ложности этой идеи критик сказал с большой осторожностью, заявив, что он не хотел бы ставить "в упрек" Островскому те толки, которые может возбудить его пьеса ("Отечественные записки", 1853, No 4, отд. V, с. 100, 102, 118).
22 П. Н. Кудрявцев, возражая А. Григорьеву и его единомышленникам, назвал комедию Островского "грубым промахом", "ошибкой против искусства" и упрекал автора "в сочиненности" и "приторности" Мити, натуралистичности Любима Торцова, в том, что "совершеннейшая пассивность" Любови Гордеевны "намеренно поставляется высшим идеалом женского характера" ("Отечественные записки", 1854, No 6, отд. IV, с. 79--101). Враждебно отнеслись к славянофильским тенденциям пьесы при первой постановке ее на сцене Малого театра (январь 1854 г.) такие актеры, как М. С. Щепкин, С. В. Шуйский (см.: "А. Н. Островский в воспоминаниях современников". М., 1966, с. 53, 54, 117, 118). Впоследствии М. С. Щепкин отчасти пересмотрел свой взгляд на пьесу "Бедность не порок" (см. его письмо к сыну от 22 августа 1855 г. -- В кн.: Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966, с. 553).
23 Имеются в виду следующие слова И. С. Тургенева: "... г-жа Тур женщина, русская женщина... мнения, сердце, голос русской женщины -- все это для нас дорого, все это нам близко... Писательниц у нас было много на Руси; иные из них владели замечательными способностями, но из всех из них одна... уже теперь не живая, г-жа Ган, могла бы оспаривать у г-жи Тур то преимущество впервые сказанного слова, о котором мы сейчас упомянули. В этой женщине было действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений,-- и не отказала ей природа в тех "простых и сладких" звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь" (Тургенев. Сочинения, т. V, с. 370). В "Собрании образцовых русских сочинений и переводов в прозе", изданном Обществом любителей отечественной словесности (ч. 1--6, СПб., 1815--1817), печатались произведения древней русской литературы, а также литературы периода классицизма и романтизма.
24 То есть статьей Чернышевского.
25 Цитата из статьи В. П. Гаевского "Обозрение русской литературы за 1850 год. Романы, повести, драматические произведения, стихотворения" ("Современник", 1851, т. XXV, No 2, отд. III, с. 65).
25 Слова Белинского из статьи "Русская литература в 1841 году" (Белинский, т. V, с. 543).
27 Цитата из этой же статьи Белинского (там же).
28 Чернышевский обыгрывает полемические выражения С. Дудышкина.
29 Явный намек на А. Дружинина, который в "Письмах иногороднего подписчика" (1848--1854), метя в Белинского, противопоставлял "исключительности" мнений "прежних тяжеловесных отчетов о годовом движении русской словесности" легкую "фельетонную критику", "живую и беспристрастную", "способную сживаться с жизнью", вроде критики французских фельетонистов ("Библиотека для чтения", 1852, No 12, отд. VII, с. 192; 1853, No 1, отд. VII, с. 162).
30 Строка из стихотворения Лермонтова "Не верь себе" (1839).
31 Услад -- герой повести В. А. Жуковского "Марьина роща -- старинное предание" (1809). Упоминая об этой повести и о манерных, чувствительных произведениях П. И. Шаликова, Чернышевский имеет в виду псевдореалистическую, антихудожественную литературу 50-х годов (см. также рецензии Чернышевского на "Новые повести. Рассказы для детей. Москва, 1854"; "Графиня Полина". Повесть А. Глинки. СПб., 1856" -- "Современник", 1855, т. L, No 3, отд. IV, с. 17--24; 1856, т. LVI, No 4, отд. IV, с. 62--67).
32 Митя -- персонаж из пьесы Островского "Бедность не порок".
33 Цитата из рецензии на "Монастырку". Сочинение Антония Погорельского. Часть первая. СПб., 1830" ("Московский телеграф", 1830, No 5, март, отд. "Современная библиография", с. 94).
34 Наряду с "Памятным листком ошибок в русском языке и других несообразностей, встречаемых в произведениях многих русских писателей", печатавшимся в "Москвитянине" в 1852--1854 гг., И. Покровский опубликовал в этом же журнале "Памятный листок удачных нововведений в русском языке, как-то: искусно составленных новых слов, счастливых выражений и оборотов речи с присовокуплением возвышенных метафор, замечательных мыслей, разительно-прекрасных картин и сцен, встречающихся в новейших произведениях отечественных наших писателей по части изящной словесности" ("Москвитянин", 1854, т, 1, отд. VIII, с. 37--46). Выписки из разных произведений, печатавшихся в русской периодике (имя автора часто не упоминалось), сопровождались похвальными оценками.
35 Такими словами характеризовался в повести Гоголя "Невский проспект" (1835) ее герой -- поручик Пирогов.
36 Имеются в виду "Любовь и верность, или Страшная минута" (1854) В. Васильева, "Страшное место. Украинская сказка в стихах русского старинного размера" (1854) М. С. Владимирова. Пустота содержания, мелодраматизм этих псевдохудожественных произведений "никому не известных" авторов подвергнуты уничтожающей критике на страницах "Современника" (1854, т. XLVI, No 7, отд. IV, с. 20--21). "Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе" (СПб., 1782) -- сочинение Матвея Комарова, популярная лубочная книжка.
37 Чернышевский обыгрывает полемические выражения Белинского из его статьи "Русская литература в 1841 году", где впервые обосновывается принцип историзма в анализе литературных явлений как главный критерий нелицеприятной "истинной критики". "Конечно,-- писал Белинский,-- тогда многие "бессмертные" совсем умрут, великие сделаются только знаменитыми или замечательными, знаменитые -- ничтожными; много сокровищ обратится в хлам; но зато истинно прекрасное вступит в свои права, а пересыпанье из пустого в порожнее реторическими фразами и общими местами -- занятие, конечно, безвредное и невинное, но пустое и пошлое -- заменится суждением и мышлением... Но для этого необходима терпимость к мнениям, необходим простор для убеждений. Всякий судит, как может и как умеет; ошибка -- не преступление, и несправедливое мнение -- не обида автору" (Белинский, т. V, с. 544).
38 В 50-е годы Чернышевский с неизменным одобрением отзывался о Д. Григоровиче как об одном из "даровитых писателей" "натуральной школы", которые "воспитывались влиянием Белинского" ("Очерки гоголевского периода русской литературы". -- Чернышевский, т. III, с. 19, 96, 103, 223). Положительно оценивая повести Григоровича 40-х годов ("Деревня", "Антон Горемыка"), Чернышевский отмечал и в романах "Рыбаки" (1853), "Переселенцы" (1855--1856), повести "Пахарь" (1853), а также в других его произведениях этих лет "живую мысль", "действительное знание народной жизни и любовь к народу" ("Заметки о журналах. Август 1856"). См. также примеч. 4 к наст. ст.
39 Чернышевский перефразирует слова рецензента "Отечественных записок" о романе Е. Тур "Три поры жизни". См. выше, примеч. 9.
40 См. наст. т., с. 25--39.
41 Неточная цитата из статьи Белинского "Русская литература в 1840 году". У Белинского: "... до сих пор мы жарко верили прогрессу, как ходу вперед, а теперь приходится нам поверить прогрессу, как попятному движению назад..." (Белинский, т. IV, с 438).
42 Чернышевский полемизирует с С. Дудышкиным, который писал: "Мысль, положенная в основание драмы г. Потехина "Брат и сестра", прекрасна, хоть ее и назовут идеальной" ("Отечественные записки", 1854, No 4, отд. IV, с. 88). Почти теми же словами аттестуя эту пьесу, главная героиня которой -- гувернантка, в другой статье, "Критические отзывы "Современника" о произведениях г. Островского, г-жи Евгении Тур и г. Авдеева", Дудышкин ошибочно называет и саму драму -- "Гувернантка". "Современник" отозвался на пьесу Потехина статьей Чернышевского "Бедность не порок" Островского".
43 Выражение из "Мертвых душ" (1842) Гоголя.
44 В "Отечественных записках" стихи В. Бенедиктова были напечатаны лишь в No 1 и 2 за 1839 г. ("Италия", "Обновление", "Слезы и звуки"). На страницах этих и последующих номеров журнала критика сочувственно отмечала в его поэзии "глубокое чувство и мысль" ("Отечественные записки", 1839, No 1, отд. VII, с. 14--15; No 2, отд. VII, с. 5; No 3, отд. VII, с. 6). Позиция "Отечественных записок" по отношению к Бенедиктову изменилась с приходом в журнал (в августе 1839 г.) Белинского, который еще в "Телескопе", в статье "Стихотворения Владимира Бенедиктова" (1835), охарактеризовал его творчество как воплощение вычурности, надуманности, риторизма.