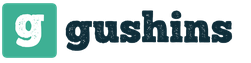Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:
У нее мать есть.
Перестань, Тёма, говорить глупости, - авторитетно останавливает мать. - Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.
Какими поколениями? Все от Адама.
Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.
Потому что я образованнее.
Потому что ты воспитаннее… Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:
Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву… Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья - это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, - сказал он матери с силой и выразительностью, - а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
IV
Гимназия
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие - уважения, третьи - ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия - надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия - учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
– Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.
Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».
В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.
Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.
Такое заигрыванье редко сходило даром.
Однажды, как только кончилась перекличка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:
– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.
– Какое-с? – сухо насторожился учитель.
– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.
– Говорите-с!
Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.
Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.
По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.
Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташева:
– До такой гадости… до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать…
Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.
– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.
Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.
ИНТЕРВЬЮ: Алиса Таёжная
ФОТОГРАФИИ: Алена Ермишина
МАКИЯЖ: Ирен Шимшилашвили
В РУБРИКЕ «КНИЖНАЯ ПОЛКА» мы расспрашиваем журналисток, писательниц, учёных, кураторов и других героинь об их литературных предпочтениях и изданиях, которые занимают важное место в их книжном шкафу. Сегодня своими историями о любимых книгах делится историк танца, исследовательница современной хореографии и создательница проекта No fixed points Вита Хлопова.
Вита Хлопова
Историк танца
Иностранных книг по хореографии у меня более трёхсот, и это только самые сливки - остальное я уже успела продать
Я единственный ребёнок в семье и, будучи немного интровертом, развлекалась чтением. Я была одной из тех, кто вечно врезался в столб на улице, потому что шла, уткнувшись в книгу. Частое воспоминание из детства: я просыпаюсь в три утра у папы на руках, а мама застилает мне кровать - я всегда засыпала за книгой.
В девять лет моя жизнь круто поменялась. Я поступила в московское балетное училище. Занятия проходили с девяти утра до шести вечера на Фрунзенской, но я жила в Зеленограде, и для того, чтобы быть в училище в районе 8:30, надо было вставать в 5:40. Приезжала домой около девяти, потом час занятий музыкой, час - уроки, час - растяжка и гимнастика. В итоге засыпала в час ночи. Поэтому меня отдали в интернат для иногородних учеников (словом «интернат» я до сих пугаю своих новых знакомых, но по факту это было просто общежитие). И хоть спать я стала больше четырёх часов, читать, как раньше, уже не могла из-за невероятной нагрузки.
Училище «подарило» стереотип, избавление от которого и привело меня к нынешней профессии: все балерины глупые. Это говорили учителя, это говорили друзья родителей, это говорили позже мои новые небалетные знакомые. «Если бы на „Титанике“ была балерина, он бы не утонул, ведь балерина - она как пробка», - подобных историй я наслушалась вдоволь. Поэтому с десятилетнего возраста я твёрдо решила, что всем докажу, что балерины не глупые. Я носила с собой нарочито много книг в руках, так, чтобы была обязательно видна обложка. Я читала то, что было ещё рано читать, чтобы «утирать нос» учительницам, которые опять говорили, что мы глупые.
Когда я поступила в ГИТИС на театроведческий факультет, я поняла, что просто категорически необразованна. Мои однокурсницы уже тогда, в семнадцать лет, обсуждали Барта, а я даже ни разу о нём не слышала. Я жутко разозлилась на себя и на своё балетное образование. Первые семестры некоторые мои сокурсницы откровенно надо мной смеялись: мои критические опыты были крайне наивными и полными дурацких журналистских клише. Но к концу обучения оказалось, что только я каким-то образом отучилась на красный диплом и только меня пригласили в аспирантуру.
Буквально через пару лет я по учёбе оказалась в Париже. Первым шоком стала библиотека центра Помпиду. Во-первых, в ней нет читательских билетов, во-вторых, можно брать с собой весь рюкзак, а не вытаскивать, для того чтобы пройти, карандаш и пару листочков бумаги. Сидеть там можно до десяти часов вечера, а когда устаёшь, можно сходить в кафе или на балкон подышать (с балконов в Помпиду открывается такой вид, что и пяти минут достаточно для новой порции вдохновения). За год я изучила весь раздел современного танца в Помпиду, и пришлось искать более специализированное место. Я нашла Центр танца, который находится в не очень благоприятном районе, довольно далеко от центра, а вид с балкона уже не вдохновлял.
Я отсматривала часы видео, перепечатывала сотни книг; библиотекари составляли мне программу, вытаскивали архивы, помогали с переводом. Казалось, будто очнулась после столетней комы и пытаюсь за пару лет понять, что за эти сто лет произошло. Два года, проведённые в том центре, дали мне все базовые знания, которые я не получила за пятнадцать лет обучения балету в России. Уезжала я из Франции с перевесом в шестьдесят килограммов. Иностранных книг по хореографии у меня более трёхсот, и это только самые сливки - остальную ерунду я уже успела продать во Франции. О балетных книгах на русском языке и говорить не буду - этот багаж копился со времён училища.
Каждый раз в путешествиях я ищу букинистические - там можно найти сокровища за копейки: дневники Нижинского за пятьдесят центов или редчайшую книгу о «Весне священной» за два евро я взяла в секретном магазине на блошином рынке в Париже. В Нью-Йорке я обошла все книжные и составила огромный гид по лучшим танцевальным книжным точкам, но в итоге подумала, что таких, как я, помешанных на одной теме, больше нет и читать его никто не будет. Сейчас мне кажется, что я неприлично мало читаю. При этом перед каждой лекцией я штудирую несколько книг, некоторые приходится проглатывать целиком за пару дней. Но так как они касаются моих профессиональных интересов, я их не считаю за «настоящее» чтение.
Я всегда беру всегда с собой Kindle. Купила его, ещё когда начинала читать лекции в ГИТИСе: на подготовку была ровно неделя, и если тема была узкой, например «Третье поколение танца модерн в Америке», то спасти меня могла только соответствующая книга: электронную версию можно было скачать моментально и стоила она дешевле. За пару лет в моей библиотеке на Kindle собралось приличное количество книг по танцу, а когда курс завершился, я скачала тонну интересных книг, не связанных с хореографией. Обычно в Kindle я читаю несколько книг параллельно, часто грешу тем, что делаю это по диагонали, но всё же учусь делать это медленнее. Сейчас пытаюсь читать дневники Сары Бернар не торопясь и внимательно, но это очень трудно: такой нарциссический и нахальный тон ещё надо вытерпеть, а сама книга громадная.
Каждый раз в путешествиях я ищу букинистические - там можно найти сокровища за копейки

роман Полански
«Angelin Preljocaj»
Анжелен Прельжокаж - это человек, который превратил меня из артистки балета в исследователя современной хореографии, и из-за него я оказалась в Сорбонне. Когда я училась в ГИТИСе, у нас не было истории балета, но я услышала о курсах по истории современной хореографии в ИСИ (Институте современного искусства), которые вела Виолетта Александровна Майниеце, она впоследствии стала моим проводником в этот исследовательский мир. На одной из первых лекций она показывала «Ромео и Джульетту» хореографа со странной фамилией, и я остолбенела оттого, что балет был поставлен совсем не на Шекспира, а на «1984» Оруэлла.
С того момента я стала изучать Прельжокажа, его же я выбрала и для диплома, обнаружив, правда, за месяц до защиты, что по-русски о нём ничего не написано. Пришлось набраться смелости и написать ему лично. Через пару часов пришло письмо, что девятого апреля месье Прельжокаж ждёт меня в своей студии для интервью. О нём написано довольно много книг, так как он один из самых важных хореографов Франции, но эта - моя любимая. Когда режиссёр Роман Полански задаёт вопрос хореографу Анжелену Прельжокажу - это уже интересно. И главное, что вопросы Поланского много рассказывают и о нём самом, что делает эту книгу интересной не только для любителей современного танца.
Нэнси Рейнольдс, Малькольм Маккормик
«No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century»
Монументальный труд директора фонда Джорджа Баланчина Нэнси Рейнольдс о современном танце двадцатого века. Моя настольная книга - она вся в заметках и комментариях. На русском языке работ по истории современного танца нет вообще. Весь двадцатый век, от Марты Грэм до Вима Вандекейбуса, известен только практикам и исследователям. Курс, который я придумала, был как раз посвящён двадцатому веку; заканчивая одну лекцию, я в тот же день начинала готовить следующую.
Именно по этой книге я писала базу для лекций, а другими - воспоминаниями, мемуарами, рецензиями, монографиями - уже дополняла рассказ. Название для своего проекта по современной хореографии No fixed points я, конечно, взяла у Нэнси Рейнольдс, которая, в свою очередь, взяла его у американского хореографа Мерса Каннингема, который, в свою очередь, взял его у Эйнштейна. Смысл в том, что в пространстве нет зафиксированных точек, следовательно, всё, что сейчас происходит, - это движение, а значит, и танец. И все мы с вами в той или иной степени артисты и танцовщики.
Марта Грэм
«The Blood Memory: An Autobiography»
Марта Грэм - главный человек для современного танца двадцатого века. Примерно как Чарли Чаплин для кинематографа. Сколько книг написано о её творчестве, жизни, романах, мужчинах, постановках - не счесть. Но эта всегда стоит отдельно, так как написана самой Мартой. Как и любая автобиография, она приправлена дозой самолюбования, но для того, чтобы узнать о жизни с точки зрения самого героя, лучшего варианта не найти. Тут вы найдёте прекрасные истории о том, как её ученица Мадонна вытягивала труппу из долгового болота, как она скрывала настоящий возраст от своего «любопытного» мужа Эрика Хокинса, как она тратила впустую свой хореографический талант, когда учила детей в школе «Денишоун».
Пару лет назад я пришла в музей «Гараж» с идеей переводить на русский язык культовые книги о современном танце, которые были написаны в двадцатом веке, переведены на несколько десятков языков и несколько раз переизданы. Я рассказывала, что до сих пор (а на дворе стоял 2015 год) на русском языке нет ничего о современном танце. Многие мои студенты впервые слышат имена тех, кто для студентов в Европе или Америке является такими же классиками, как для нас Петипа. В том же ГИТИСе я не могла дать список литературы для изучения, так как он целиком состоял бы из иностранных книг. «Гараж» в итоге мне поверил, и мы запустили серию «GARAGE DANCE», где как раз под номером один выйдет автобиография Грэм. Это действительно огромное и очень важное начинание, и я счастлива, что именно эта книга станет доступна для читателей на русском языке.
Ирина Дешкова
«Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах для детей и их родителей»
Эту книгу можно найти только в букинистических отделах, но если найдёте, хватайте - это счастье. Ирина Павловна Дешкова преподавала у нас в училище историю балета, и это были лучшие уроки. Она не перечисляла монотонным голосом даты жизни Петипа, а показывала нам какие-то невероятные видео типа Riverdance (это сейчас все уже знают о нём, а в девяностых это было откровением) или диснеевского шедевра «Фантазия», где бегемотики пляшут в пачках под Чайковского, а динозавры проживают свою трагическую судьбу под «Весну священную».
Я до сих пор считаю, что лучшей инициации в классическую музыку для детей не найти. Когда Ирина Дешкова написала эту книгу, нас всех обязали купить её. Признаться, я очень долго её не открывала. Но уже во взрослом возрасте случайно нашла и не смогла оторваться - прочла за пару часов и хохотала от восторга. Книга состоит из остроумных и прекрасно написанных статей, расположенных в алфавитном порядке, от рассказов о том, что такое «арабеск» или кто такой Людовик XIV, до анекдотов про балерину, убившую вора ударом ноги.
Елизавета Суриц
«Хореографическое искусство двадцатых годов. Тенденции развития»
Елизавета Яковлевна Суриц - наш главный историк балета, которую ценят и обожают абсолютно все. За границей о ней говорят исключительно с придыханием и восторгом. Но, что удивительно, при всём академическом признании её книги невероятно легко читаются. Тебе не надо продираться сквозь сложнейшие конструкции и малоупотребимые выражения, ты не чувствуешь себя глупым, открывая её работы.
Я рекомендую все её книги - от монографии, посвящённой Леониду Мясину, до единственного труда на русском языке по истории танца в США «Балет и танец в Америке». Но именно эту люблю больше всего, так как двадцатые годы двадцатого века - очень непростой период для балета и танца. Она рассказывает про ранние годы молодого Георгия Баланчивадзе, ставшего позже известным американским хореографом Джорджом Баланчиным, про опередившие время опыты Касьяна Голейзовского и Фёдора Лопухова и про многих других, чуть менее известных.
Твайла Тарп
«Привычка к творчеству»
Твайла Тарп хорошо известна в России. Все помнят танцующего под Высоцкого Барышникова - так вот, это поставила Тарп. Она на самом деле «крёстная мать» Барышникова в Америке, так как после её «Push comes to shove» беглый советский артист балета превратился в легендарного Misha Baryshnikov, именно она дала старт его американской карьере.
Суперпопулярная Твайла написала книгу о том, как приручить свою музу. Как сделать так, чтобы муза прилетала к тебе ровно с девяти до шести, ведь привычка создавать - это не что-то данное свыше, а кропотливая работа. Книга сразу же стала бестселлером, а продавалась она как пособие по бизнесу. У нас нет права ждать вдохновения. У хореографа есть артисты, которым надо платить зарплату, есть ипотека, есть дети, которым надо учиться в колледже, - поэтому очень важно выработать в себе привычку создавать. В книге много примеров, тестов и упражнений, которые помогут разобраться в проблемах, к примеру, с тайм-менеджментом. Книга написана в американском стиле, с лозунгами и мотивационными фразами, и она очень вдохновляет.
Курт Йосс
«60 Years of The Green Table (Studies in Drama and Dance)»
За этой книгой я очень долго охотилась на Amazon: то она стоила очень дорого, то надолго пропадала. В итоге после года мучений я смогла её отхватить и была счастлива, так как по немецкому хореографу, учителю Пины Бауш Курту Йоссу информации крайне мало. В моей библиотеке есть два экземпляра - один из них с очень интересной дарственной надписью. Как-то пару лет назад мой знакомый, никак не связанный с танцами, позвонил мне и сказал, что у его коллеги умерла тётя, немного увлекавшаяся балетом, и оставила после себя библиотеку, которую племянник вот-вот выбросит. Я из вежливости согласилась, но понимала, что, скорее всего, у бабушки была пара книг Красовской, может, что-то по советскому балету - в общем, то, что лежит вне моих научных интересов.
Когда я вошла, я увидела, что вся квартира уставлена книгами о балете. И тут до меня дошло, кем была эта бабушка, - очень известной в советское время исследовательницей танца, в прошлом артисткой ансамбля имени Игоря Моисеева, где я в своё время тоже несколько лет протанцевала. Я срочно позвонила в ГИТИС, в архивы, в Союз театральных деятелей, чтобы эту библиотеку не пропустили, но несколько иностранных книг всё-таки забрала себе. Одна из них как раз о Курте Йоссе. А подписал её Игорь Моисеев: «Глубокому искусствоведу - в будущем и обаятельному существу - в настоящем в радостный для нас день её появления на свет с удовольствием оставляю на память. 22/II 1959. И. Моисеев».
Линн Гарафола
«Русский балет Дягилева»
О Дягилеве и «Русских сезонах» всё продолжают и продолжают писать книги. Эта невероятно притягательная история порождает кучу домыслов и небылиц. Вроде бы уже сто лет прошло, каждый из двадцати балетных сезонов изучили вдоль и поперёк, но каждый год выходит какая-нибудь новая работа - писатели перестают исследовать и просто перебирают известные факты.
Но Линн Гарафола - американская исследовательница и профессор Барнард-колледжа, входящего в Колумбийский университет - написала действительно отличную книгу. Я всегда предлагаю начинать знакомиться с дягилевской антрепризой с её кропотливо собранного труда. Этой учёной можно верить, и, более того, приятно осознавать, что в её труде нет спекуляций о русском балете и особенно советском периоде, которыми часто изобилуют иностранные книги. Она не ошибается в именах малоизвестных хореографов - не каждый сможет правильно написать в книге какую-нибудь сложную фамилию типа Yury Grigorovich.
Олег Левенков
«Джордж Баланчин»
Джордж Баланчин, он же Жорж Баланчин, он же Георгий Мелитонович Баланчивадзе, с нуля построил в Америке балетную школу и первую профессиональную труппу. До Америки он поработал в дягилевских сезонах хореографом, отучился в балетном училище в Петрограде и пару лет танцевал в театре, который сейчас называется Мариинским. О нём написано очень много - именно его называют главным балетмейстером двадцатого века и даже «Петипа двадцатого века». Но в основном книги затрагивают американский период, когда он довёл до совершенства свой особенный абстрактный стиль.
Периоды у Дягилева и, главное, в России остаются менее изученными, хотя они были очень интересными. Удивительно, но на русском языке полноценной монографии о Баланчине нет. И вот Олег Романович Левенков - создатель Дягилевского фестиваля в Перми - выпустил первую часть его биографии. Олег Романович был известным баланчиноведом, главным в нашей стране. Эта книга не хронология жизни Баланчина, не вольная адаптация известной биографии, написанной Бернардом Тейпером, а очень изящное исследование малоизученного периода жизни хореографа. К сожалению, из-за того, что Левенков внезапно ушёл из жизни (это потрясло весь балетный мир), второй том он выпустить не успел.
Жан Эффель
«Сотворение мира»
Этот советский четырёхтомник мы с мужем нашли на помойке - кто-то, видимо, освобождал книжные шкафы и выложил это сокровище. Карикатуры Эффеля, конечно, часто на грани, но смотреть на историю создания мира с позиции не всесильного начала, а практически такого же человека, как и мы, очень любопытно. Эти карикатуры были очень популярны в Советском Союзе, и, что самое интересное, по ним был поставлен балет.
В 1971 году в Кировском театре (ныне Мариинский) состоялась премьера балета «Сотворение мира» Владимира Василёва и Наталии Касаткиной, где роль Адама исполнил молодой талантливый артист Михаил Барышников. Спустя три года он сбежал из Советского Союза, что доставило немало проблем этому балету - «рассаднику» слишком свободных идей. В детстве мы много слышали об этом легендарном балете, где Барышников раскрывался как гениальный актёр и где уже проявлялся его талант вне классических партий. Такое издание Эффеля я видела и в детстве у родителей, но связать эти карикатуры и балет с Барышниковым я сумела только после того, как случайно нашла это издание на помойке.
В книгу избранных произведений известного русского писателя Н.Г.Гарина-Михайловского вошли первые две повести автобиографической тетралогии «Детство Темы» и «Гимназисты», а также рассказы и очерки разных лет.
Детство Темы
Гимназисты
Рассказы и очерки
Под вечер
Бабушка Степанида
Дикий человек
Переправа через Волгу у Казани
Немальцев
Вальнек-Вальновский
Исповедь отца
Жизнь и смерть
Два мгновения
Дела. Наброски карандашом
Клотильда
ДЕТСТВО ТЁМЫ
Из семейной хроники
I
НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ
Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.
Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом – добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было.
Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.
Вдруг… Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось… Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за раскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда гер Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло:
– Махровый расцвел!
II
НАКАЗАНИЕ
Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты – воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.
Двери кабинета плотно затворяются.
Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:
– Милый папа, я придумал… я знаю, что я виноват… Я придумал: отруби мои руки!..
Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял пред сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:
III
ПРОЩЕНИЕ
В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Тёмы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Тёмы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.
Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в ее голове.
Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе… Белье бы переменить… Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого – вот задача правильного воспитания.
Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня – огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки…
Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.
IV
СТАРЫЙ КОЛОДЕЗЬ
Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массою мелкого колючего песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Тёмы, волна обдает его каким-то удушливым жаром, тяжело наваливается и душит… Волна опять отливает, ему опять легко и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.
Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.
– Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма.
– И-и, – отвечает няня, – Жучку в старый колодезь бросил какой-то ирод. – И, помолчав, прибавляет: – Хоть бы убил сперва, а то так, живьем… Весь день, говорят, визжала, сердечная…
Тёме живо представляется старый заброшенный колодезь в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользящее, жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу.
V
НАЕМНЫЙ ДВОР
Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый организм ребенка взял верх.
Когда в первый раз Тёма показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко остриженными волосами, – на дворе уже стояла теплая осень.
Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.
Ничего не переменилось со времени его болезни! Точно он только часа на два уезжал куда-нибудь в город.
Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, рассохшаяся, с еле держащимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не понимают.
ГИМНАЗИСТЫ
Из семейной хроники
I
ОТЪЕЗД СТАРЫХ ДРУЗЕЙ В МОРСКОЙ КОРПУС
Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры.
Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками, белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, в pince-nez на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо.
Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть.
Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным.
Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя, по обыкновению, ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и наконец проговорил, обращаясь к нему:
II
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Касицкий уехали, и Карташев расстался с друзьями, с которыми три года прожил душа в душу.
Новое время, новые птицы, – новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные и запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташевым, Корневым и другими.
Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Касицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю.
Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташев не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор.
В своей компании с Даниловым и Касицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый.
III
МАТЬ И ТОВАРИЩИ
Дома Карташев умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева.
Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых – все критика таких сочинений, о которых он не слыхал, а когда спрашивал мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе: на каждом шагу попадались знакомые уже в речах корневской компании мысли, да и Писарев усвоялся гораздо легче, чем Белинский.
Когда Карташев вышел к чаю, он уж чувствовал себя точно другим человеком, точно вот одно платье сняли, а другое надели.
Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то, к своему удовольствию, убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнения. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше – и конец. Карташев вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляла особенно наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость.
Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратить на это внимание Корнева. «Что ж, что не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей».
IV
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
V
ЖУРНАЛ
Когда классы после вакаций только что начинались, рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного, серого моря гимназической жизни.
Но вот и рождество: завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташева, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Касицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор как уехали друзья, не видал его Карташев.
Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять… Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груду лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.
Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? – подумал Карташев, звоня у подъезда.