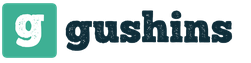Иеромонах Иов (Гумеров)
История рассказана устами сатаны
Вопрос: Здравствуйте, уважаемый о. Иов! К вопросу о книге "Собачье Сердце". Какое место занимает у Булгакова Православная Церковь именно в то время - 1924 год, время большевистской власти? Я понимаю, что мой вопрос не совсем по теме "вопросов к священнику", т.к. он больше литературный. Но я буду очень благодарен, если Вы ответите. Спасибо! С уважением, Тимур.
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Невозможно говорить о религиозности человека, ограничиваясь одним небольшим периодом. Особенно это трудно в отношении к М. Булгакову. Его жизненный путь, несомненно, представляет собой духовную трагедию. Он происходил из священнического рода. Дед по линии отца был священником Иоанном Авраамьевичем Булгаковым. Отец его матери Варвары был протоиереем церкви Казанской иконы Божией матери в Карачеве – Михаил Васильевич Покровский. В честь него, по-видимому, назвали внука. Отец Михаил венчал родителей будущего создателя «Белой гвардии» (авторское название Белый крест): Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны. Отец писателя священником не стал, но был доцентом (в самом конце жизни – ординарным профессором) кафедры западных исповеданий Киевской духовной Академии.
Отношения в доме были теплые. Родители и семь детей составляли единую дружную семью. Михаил в детстве и отрочестве имел много радостей. Трудно представить, чтобы детям не подавалось христианское воспитание. Вопрос в другом: было ли оно основательным? Определяло ли оно весь строй жизни семьи? То немногое, что мы знаем, убеждает в обратном. По-видимому, было то, что наблюдалось во многих образованных семьях конца 19-го - начала 20 веков: увлечение чисто светской культурой доминировало над религиозными интересами. По воспоминаниям Ксении Александровны (жены брата Михаила Афанасьевича – Николая): «Семья Булгаковых – большая, дружная, культурная, музыкальная, театральная; могли стоять ночь, чтобы иметь билет на какой-нибудь интересный спектакль. Был домашний оркестр» (Собр. соч. в десяти томах, т.1, М., 1995, с.13). Легко понять, почему в разнообразных материалах к биографии М. Булгакова (письмах, дневниковых записях, воспоминаниях) совершенно нет никаких признаков религиозной жизни (ни внешней, ни внутренней). Сказать, что вера была потеряна полностью, нельзя. Какие-то следы ее остались. Об этом можно судить по дневниковым записям 1923 года: «19 октября. Пятница. Ночь. …В общем хватает на еду и мелочи. А одеваться не на что. Да, если бы не болезнь, я бы не страшился за будущее. Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ»; «26 октября. Пятница Вечер…. Сейчас просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом сентиментальном Купере. Там Давид, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге. Может быть, сильным и смелым Он не нужен. Но таким, как я, жить с мыслью о Нем легче» (СС, т.1, 81-82). Запись эта сделана за несколько месяцев до начала работы над «Собачьим Сердцем». Какое место занимает у Булгакова Православная Церковь именно в то время? Интерес к гонимой богоборческой властью Церкви никак не проявился ни в творчестве, ни в личных документах. Но и сочувствия к гонителям не было. Скорее отвращение. Именно ко времени начала работы над «Собачьим Сердцем» относится интересная дневниковая запись от 4 января 1924 года: «Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешниковом переулке, вернее в Космодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М.С., и он очаровал меня с первых же шагов. – Что вам стекла не бьют? – спросил он у первой же барышни, сидящей за столом. – То есть, как это? (растерянно). Нет, не бьют (зловеще). – Жаль. … Тираж, оказывается 70 000 и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят… Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее… Этому преступлению нет цены» (СС, т.3, с.24-25; В. Петелин. Счастливая пора). Все, происходившее вокруг, М. Булгаков воспринимал как дьяволиаду . Именно поэтому критик Л. Авербах увидел в сборнике “Дьяволиада” (1924) злую сатиру на советскую страну: «Тема эта – удручающая бессмыслица, путаность и никчемность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество».
Теперь о самой повести «Собачье Сердце». В ней нет религиозных идей в точном значении этого слова. Это сатира. Верная по своим острым наблюдениям. Сильная и резкая в изображении реальных извращений и деформаций прежней жизни. В ней можно почерпнуть материал для этических размышлений о важности традиционных (можно сказать христианских) понятий о ценности человеческой жизни и опасностях научных экспериментов с человеком (вспомним чудовищные претензии сторонников клонирования). В этом отношение эта фантастическая повесть – заметное явление в истории литературы 20-го столетия.
Однако сатира не воспитывает. Дело не только в законах жанра. Главное в мировоззрении автора. А. Ахматова точно написала на смерть М. Булгакова в марте 1940 года:
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презрение.
Вера детства ушла. Поэтому роман «Белая гвардия” (1922 -24), начинающийся с рассказа о смерти матери, не только печален, но и ностальгичен. Мать уносила с собой драгоценную частицу прошлой жизни Михаила, в которой были чистые и радостные переживания детской верующей души: «О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? … белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней … Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец (Часть первая. 1) …Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский, беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер, Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и, молча, положила первый земной поклон» (Часть третья. 18).
К 1926 году, по-видимому, произошел духовный надлом писателя. Внешним проявлением этого болезненного события явилась пьеса “Бег”, которая очень понравилась М. Горькому («будет иметь анафемский успех»). Булгаков давно уже был расцерковленным человеком. Но, помня свое родство и мир, который его окружал в те радостные детские годы, он никогда не писал о священниках насмешливо, тем более едко. В пьесе “Бег” архиерей и монахи – самые карикатурные фигуры. Пародируется молитва. Едкость в отношении священнослужителя проявляется даже в деталях: Африкан – архиепископ Симферопольский и Карасубазарский, он же химик из Мариуполя Махров. Все пародийно: второй титул, мнимая профессия (химик), мнимая фамилия (прилагательное махровый весьма любили советские идеологи). Изображен он трусливым, неискренним. Художественное произведение всегда типологизирует жизнь. Поэтому очевидно, что М. Булгаков делает все сознательно. Возникает вопрос, как писателю удается так легко пойти на заведомую ложь. Писатель был современником событий. История Церкви в эти годы хорошо изучена по документам. Священнослужители явили высокий дух исповедничества. Многие стали мучениками. В белом движении при Главнокомандующем П.Н. Врангеле в описываемое время был епископ (будущий митрополит) Вениамин (Федченков) (1880 – 1961), оставивший нам подробные мемуары. Это был достойный архиерей, человек высокой духовной жизни.
“Бег” был закончен в то время, когда богоборческая власть начала новый этап в гонениях на Церковь. Сознавал это автор или нет, но от факта не уйдешь – пьеса этому способствовала.
В 1928 году М. Булгаков начал работать над книгой Мастер и Маргарита. Этот роман полностью открывает духовную природу происшедшего с ним в середине 20-х годов внутреннего болезненного перелома. Центральный персонаж этой книги является Воланд – князь тьмы. Лишь в начале он окружен определенной тайной. В дальнейшем автор изображает его как сатану, дьявола. Легко видится параллель с Мефистофелем. И само имя взято из «Фауста» И.В. Гете. Так называет себя Мефистофель (сцена Вальпургиевой ночи). Переводы Н.А. Холодковского и Б.Л. Пастернака это не передали. Не нужно доказывать, что по композиции и по повествованию князь тьмы составляет как бы главный нерв романа. М. Булгаков наделяет его особой властью воздействовать на людей и события. Все художественные средства использованы для того, чтобы придать этому персонажу силу и даже обаяние. Это подтверждается не только содержанием романа, но и эпиграфом: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Слова эти взяты из «Фауста», и принадлежат Мефистофелю. Эпиграфом выражает главную идею произведения. Дух злобы изображен повелителем над всем. Он определяет участь людей. В диалоге с Левием Матвеем (этот персонаж кощунственно изображает евангелиста Матфея) князь тьмы говорит: “Мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно”. Перед этим М. Булгаков рисует такую сцену:
Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.
Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?- Заговорил Воланд сурово.
Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, - ответил дерзко вошедший.
Но тебе придется примириться с этим, - возразил Воланд, и усмешка искривила его рот…
Кончается эта сцена:
- Передай, что будет сделано, - ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул: - и покинь меня немедленно.
Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, - в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.
Для христианина любой конфессии демонизм романа М. Булгакова очевиден. Мы получили истину священной истории, свидетельство о нашем искуплении из рук богодухновенных апостолов – учеников Спасителя мира. В романе М. Булгакова новозаветная история рассказана устами сатаны. Автор путем продуманной и четкой композиции предлагает нам вместо Священного Писания взгляд на Сына Божия, Спасителя мира, и на евангельскую историю глазами того, кто сам называет себя профессором черной магии.
Мы не можем рассуждениями о культурных ценностях, художественном мастерстве и прочих вещах уклониться от выбора. А выбрать должны сделать между Иисусом Христом и Воландом. Совместить спасительную веру с демонизмом невозможно. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» (2 Кор. 6:15).
20 / 12 / 2005
(pravoslavie.ru)
Ксения Хмельницкая
Евангелие от сатаны
Роман по структуре двойной. Перед нами развиваются два параллельных сюжета - "московский" и "ершалаимский", которые в конце сливаются. При этом "ершалаимский" сюжет написан одним из героев основного романа. И тут возникает вопрос – каким?. Вроде бы роман пишет Мастер, но рассказчиком первой главы является Воланд. В одном из черновиков романа происходит такой разговор между Иванушкой и "Неизвестным":
"- Так вы бы сами и написали евангелие, - посоветовал неприязненно Иванушка.
Неизвестный рассмеялся весело и ответил:
Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову! Евангелие от меня, хи-хи..." (Булгаков М.А. Великий канцлер. Черновые редакции романа "Мастер и Маргарита". М., 1992, с 235).
Так что Воланд явственно является по крайней мере помощником, а то и настоящим автором романа о Понтии Пилате. Более того М. Дунаев, основываясь на исследование Н.К. Гаврюшина ("Литостротон, или Мастер без Маргариты", Символ, 1990, № 23) доказывает, что "если взглянуть непредвзято, то содержание романа, легко увидеть, составляет не история Мастера, не литературные его злоключения, даже не взаимоотношения с Маргаритой (все то вторично), но история одного из визитов Сатаны на землю: с началом оного начинается и роман, концом его же и завершается… С какой же целью посещает Воланд Москву? Чтобы дать здесь свой очередной "великий бал". Но не просто же потанцевать замыслил Сатана… "Великий бал" и вся подготовка к нему составляют не что иное, как сатанинскую антилитургию, "черную мессу"… На Литургии в храме читается Евангелие. Для "черной мессы" надобен иной текст. Роман, созданный Мастером, становится не чем иным, как "евангелием от Сатаны", искусно включенным в композиционную структуру произведения об анти-литургии".
Но верно ли это? Сама я давно воспринимаю эту книгу как сатанинскую: слишком яркой фигурой в ней является могучий, величественный и справедливый Воланд, слишком убедительно звучат его размышления: "Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп", слишком привлекательны действия всей его свиты, и поступок присоединившейся к ним Маргариты выглядит единственно правильным… В свое время все это произвело на меня огромное впечатление и понадобились годы, чтобы сбросить с себя мрачное очарование булгаковского романа и парализующее действие воландовской логики…
Но есть ведь верующие люди, считающие, что Булгаковым совершен настоящий духовный подвиг: имя Иешуа, кажется, уже вплотную приближается к имени Иисус, да и Мастер, несомненно, пишет роман о Боге…
Но о Боге ли? Попробуем разобраться…
Учитель и ученик
Учитель.
С первых же Булгаковских слов, что об Учителе, что об ученике, у христианина не могут не возникнуть недоумения: "двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора."
Первое, что бросается в глаза – возраст. Что это? Ошибка? Указание на то, что Иисус выглядел моложе Своих лет? Некая маскировка – чтобы читатель сразу не догадался о Ком идет речь? Или подчеркивание разницы между романом и Евангелием – перед нами не просто "литературная обработка", но иная (т.е. более верная?) версия?..
Ошибиться в таком вопросе Булгаков не мог. Второе предположение обосновать сложно – больше никаких возвращений к этой мысли нет. Третье не логично, ибо имя Иисус прозвучало уже в конце первой главы:
"- Имейте в виду, что Иисус существовал… И доказательств никаких не требуется… Все просто: в белом плаще..."
Да и имя Понтий Пилат убивает всю маскировку сразу…
Второе, что останавливает внимание, слова: "Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора". Невольно вспоминается Честертон: "Вместо того, чтобы смотреть книги и картины посвященные Евангелию, я прочел само Евангелие. Там я обнаружил не описание человека с тонким пробором и умоляюще сложенными руками, но Существо необычайное, чья речь гремела как гром и чьи поступки были грозно решительны: Он опрокидывал столы менял, изгонял бесов, свободно, точно вольный ветер, переходил от одиночества в горах к страшной проповеди перед толпой – я увидел Человека, который часто поступал, как разгневанное божество, и всегда – как подобает Богу… О Христе говорят – должно быть так и надо – мягко и нежно. Но речь Самого Христа исполнена странностей и мощи – верблюды протискиваются сквозь ушко, горы ввергаются в море. Эта речь ужасает. Он сравнил Себя с мечом, и велел мужам продать свою одежду, чтобы купить меч. То, что Он еще более грозно, призывает к непротивлению, усугубляет таинственность, усугубляет яростную силу…". У Булгакова же с этих первых строк перед нами встает человек слабый и беззащитный. Иисус молчит перед Пилатом, чем вызывает его изумление; Иешуа же стремится объяснить, что происходящая – ошибка:
"- Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?..
…Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:
Добрый человек! Поверь мне...".
Странно даже помыслить, чтобы Господь, идущий на вольную страсть, просил пощады… Только в молитве перед Отцом просит Он отвести от Него Чашу, стоя же пред истязающими Его Он по большей части молчит. Если же Он обращается к ним, это не мольба – это голос совести:
"Друг, для чего ты пришел?" (Мф.26, 50)
"Целованием ли предаешь Сына Человеческого?" (Лк 22, 48)
"Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и вы не брали Меня. " (Мр. 14, 48-49)
"Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?" (Ин.18, 23)
"Если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией" (Лк. 22, 67-69)
Иешуа не таков:
"- Я понял тебя. Не бей меня.
Через минуту он вновь стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый больной голос:
Мое? - торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева."
"- А ты бы меня отпустил, игемон, - неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, - я вижу, что меня хотят убить."
Иешуа – этот слабый, испуганный человек, попавший в руки римских солдат, вызывает жалость – и только…
Но вот фраза окончательно разделяющая Иешуа и Христа:
"- Кто ты по крови?
Я точно не знаю, - живо ответил арестованный, - я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец..."
Если до сих пор (забыв о странном возрасте) можно было думать о неудачном изображение Христа, о желании автора подчеркнуть в Нем человеческую природу, то эти слова показывают, что перед нами кто угодно, но не Сын Божий. Ведь Иешуа, как становится понятным дальше, ложь не любит – он будет говорить правду и когда она однозначно станет для него губительна. Таким образом, Иешуа, Христос Булгакова – только человек. Что ж, ничего нового в такой позиции, конечно, нет. Собственно говоря, большинство нехристиан так и считают – если и был, то человек, возможно, философ, возможно, экстрасенс, возможно, хороший человек, возможно даже чей-то посланник, но – один из многих…
Конечно, во времена Булгакова советская власть больше любила мысль, что Христа вообще не было ("Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем - простые выдумки, самый обыкновенный миф.")… Ну, а для тех, кого такая точка зрения не устраивает, мир, в лице Булгакова, предлагает иной вариант… В любом случае, мне это трудно назвать "духовным подвигом"…
Разговор Иешуа и Пилата вскоре касается учения Иешуа, а, соответственно, учеников, Евангелия, евангелистов…
"- Эти добрые люди… ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной… Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
Кто такой? - брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.
Левий Матвей, - охотно объяснил арестант, - он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой... однако, послушав меня, он стал смягчаться… наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать... он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны… И с тех пор он стал моим спутником."
Итак, ученик у Иешуа только один, да и тот не много понимает из того, что говорит учитель. Соответственно, по версии Булгакова, все Евангелия (под)ложны и Учитель зарождающееся учение назвал путаницей, которая будет продолжаться долго (интересно сколько? Не до тех ли пор, пока роман Мастера откроет людям глаза?)…
Кроме того, Иешуа своего ученика не любит (его он даже "добрый человек" не назвал). И не имеет сил на него повлиять – объяснить ли в чем тот ошибается, прогнать ли – чтобы людей не путал…
В тоже время обращаешь внимание на то, как легко Иешуа на допросе называет имя Левия, не задумываясь о том, что это может привести к аресту ученика (и Булгаков никак не мог не заметить этого – не те времена были…). Как я уже отмечала выше, Иешуа не дорожит учеником, но в данном случае дело не в этом – зла Левию Иешуа, конечно, не желает. Но Иешуа говорлив и (в лучшем случае) наивен.
"- Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?..
- …Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти".
Бросается в глаза очередное несоответствие Евангелию, где Пилат задает такой же вопрос... Впрочем, это естественно. Если Иисус – Истина, Путь и Жизнь, то Иешуа, как мы убедились, только человек. Молчание Иешуа не свойственно, так что он пользуется возможностью высказаться. Истина для Иешуа – реальность. Человек, которому "правду говорить легко и приятно", не принимает масок и лицемерия. "Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня". Что ж, он действительно хороший, не могущий не вызвать симпатию человек, этот Иешуа. Симпатию и жалость, ибо что-то в его правдолюбие не то – он действительно прост как голубь, но как змий он не мудр и слова о не метании бисера – тоже не про него…
Но здесь Иешуа совершает и свое маленькое чудо – он не только понимает состояние находящегося перед ним человека, он исцеляет его. Не будем даже разбирать как, какой силой делает это Иешуа. В любом случае он остается верен себе – добрый, но простой человек – он помог как врач, тогда как Господь пришел исцелить души. Телесные исцеления Христос предваряет вопросом: "Веруешь ли?". Иешуа к такой вере не призывает. "Сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает… Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет…Ну вот, все и кончилось.. и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях… Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека". – человеческая жалость и желание поговорить… Впрочем, сам Иешуа отрицает то, что он врач. Но его отличие от врача в ином – он философ, а не врач, целительство для него лишь один из способов выражения его философии и веры в людей…
"- Беда в том, - продолжал никем не останавливаемый связанный, - что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон..."
" - Злых людей нет на свете…
- …В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
Нет, я своим умом дошел до этого.
И ты проповедуешь это?
А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, - он - добрый?
Да, - ответил арестант, - он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств… Если бы с ним поговорить… я уверен, что он резко изменился бы."
Кажется, здесь Иешуа очень близко подошел к христианству… Правда, профессор Московской Духовной Академии М.М. Дунаев утверждает, что Иешуа "договаривается под конец до абсурда, утверждая, что центуриона Марка изуродовали именно "добрые люди"", но мне кажется, здесь Михаил Михайлович все же судит слишком строго: простой человек, любящий людей и видящий, что в них (жестоких и черствых) есть и доброе, вполне может выразить свое мировоззрение в подобных словах. Но опять же это слова простого человека. В них нет силы, а есть скорее некое дон-кихотство.
И еще одно убеждение Иешуа показывает нам Булгаков:
"- …Попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть.
Его этот вопрос чрезвычайно интересовал... В числе прочего я говорил… что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть".
Хотя, кажется, уже нет никакой необходимости показывать насколько велика разница между Иешуа и Христом, приведу цитату из Евангелия:
"Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему." (Мр12, 14-17)
Т.е. Христа лишь обвиняли в том, что Он "Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем" (Лк.23,2), тогда как Он ни слова не сказал против власти, а Апостолы Его писали: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены". (Рим.13, 1)
Таковы вера и проповедь Иешуа.
Впрочем, он верит и в Бога. Он сам говорит об этом, отвечая на прямой вопрос Пилата, а прежде указывает на Него, возражая, что Пилат вовсе не властен перерезать волосок, на котором висит жизнь Иешуа:
"- Согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?"
И вновь ответ Иешуа много проще, нежели Иисуса:
"Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше" (Ин.19,11).
Более того, ответ Иешуа имеет прямую параллель со словами Воланда из первый главы, который тоже говорит о существование Бога, о том, что человек "иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер… Кирпич ни с того ни с сего… никому и никогда на голову не свалится"...
Сама по себе мысль, безусловно, верная (и если бы так много людей не закрывали бы на этот факт глаза, можно было бы сказать – банальная), но единение Иешуа вместо Евангелия с Воландом по меньшей мере настораживает…
"- Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? - тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
У меня и осла-то никакого нет, игемон, - сказал он. - Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал."
Подобных "указаний" в романе Мастера немало. Все они подталкивают читателя к одному: принять роман, как историю, ставшую основой "известного мифа" и останавливаться на них я уже не буду…
Следующая сцена, где мы видим вновь Иешуа, это казнь и ее описание. И вновь нам показывается несчастный, несправедливо казнимый человек. "Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой". Отличия в положение его и висящих рядом разбойников практически нет. Иешуа только "счастливее двух других... В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье". Правда, он и теперь, в страдании, остается верен себе: "Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и не добившись этого, хрипло попросил палача:
Дай попить ему."
Когда Пилат спрашивает Афрония, не пытался ли Иешуа проповедовать, Афроний приводит только одну фразу: "Он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из главных он считает трусость".
С этим и умирает молодой бродячий философ Иешуа: с пронесенной сквозь муки добротой и с двумя фразами сказанными для Пилата – что "не винит за то, что у него отняли жизнь" и про трусость. А что он еще может сказать?..
Поскольку, по мысли Булгакова, загробная жизнь, для тех, кто в нее верит, существует, Иешуа продолжает жить в мире усопших – не воскресает, нет, об этом, конечно, нет и речи, но живет. Где и как нам не объясняется, но кое-что показывается… Первый раз умерший философ появляется в пророческом сне Пилата, когда они вместе идут по лунной дорожке: "они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем" – т.е. и после смерти Иешуа остается собой: любителем поговорить и поразмышлять. Его учение, доброе и интересно, все-таки лишено внутренней силы (еще раз вспомним Евангелие: "дивились учению Его, ибо слово Его было со властью" (Лк2, 32)).
Второй раз мы слышим об Иешуа от Левия Матвея:
"- Он прислал меня… Он прочитал сочинение мастера… и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
Он не заслужил света, он заслужил покой, - печальным голосом проговорил Левий.
Передай, что будет сделано, - ответил Воланд…
Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, - в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.
Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи."
Итак, кем бы ни был Иешуа после смерти, он просит Воланда наградить мастера покоем. Для него Воланд не Враг и власти над адом у него нет никакой. Как нет у него власти и над судьбами людей – он не мог сам пустить Пилата к себе на лунную дорогу, хоть и желал того – и нужно ему было не раскаяние Пилата (оно было), ему нужен был мастер. Мастер, который не заслужил света… В общем-то, света мастер действительно, похоже, не заслужил (хотя бы тем, что принимает помощь бесовских сил), но роман-то подталкивает нас к мысли, что если мастер и недостоин наград, то он достоин милости и покоя. Хорошо, пусть даже так, но почему тогда покой (а о дарование вечного покоя умершим молится Церковь), находится у Воланда?.. Кажется, круг смыкается – у Булгакова не Иешуа, а Воланду отдано то, что принадлежит Христу: (иногда карающую) справедливость, мудрое сострадание к людям, величие, власть, суд, возможность одарить вечным покоем (интересно, а чем дарит Иешуа – вечными беседами?)… Вот он – истинный мессия Булгакова – Антихрист…
Ученик. Левий Матвей с самых первых строк о нем, предстает перед нами личностью сильной и решительной (сборщик податей, решившийся бросить деньги и пойти за поразившим его проповедником), упрямой (несмотря на мольбу любимого учителя, вырывает пергамент из его рук и убегает) и ограниченной. Более полно Левий раскрывается нам во второй главе ершалаимского романа.
Будучи одним, нелюбимым и непонимающим учителя учеником, Левий между тем на первый взгляд кажется человеком обладающим тем, чего не хватило апостолам Христа: он верен и смел, он пытается помочь учителю и не оставляет его до самого конца.
Отстав от Иешуа и прибыв в Ершалаим, когда выносили приговор, "Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Иешуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним, что он не бросил его на последнем пути и что он молится о том, чтобы смерть Иешуа постигла как можно скорее... И вот, когда процессия прошла около полуверсты по дороге, Матвея… осенила простая и гениальная мысль, и тотчас же, по своей горячности, он осыпал себя проклятьями за то, что она не пришла ему раньше. Солдаты шли не тесною цепью. Между ними были промежутки. При большой ловкости и очень точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя легионерами, дорваться до повозки и вскочить на нее. Тогда Иешуа спасен от мучений. Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему: "Иешуа! Я спасаю тебя и ухожу вместе с тобой! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!" А если бы бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Впрочем, последнее мало интересовало Левия, бывшего сборщика податей. Ему было безразлично, как погибать. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний".
Почему же Левий оказался смелее, а возможно и догадливее апостолов?
Первое, это, безусловно то, что Христос шел на смерть добровольно – Он говорил ученикам о Своей грядущей казни задолго до нее, а в Гефсиманском Саду, когда Петр сделав попытку защитить Его, " имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо... Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?" (Ин.18, 10-11). Т.е. то, что Иисус не был простым человеком, одним из учителей – Он пришел не столько дать учение, сколько пострадать за нас.
Второе, это то, что не понимая до конца что именно делает Иисус, Апостолы между тем не сомневались, что перед ними Христос – Мессия, Тот, о Ком говорили пророки, Тот, Кто должен восстановить Царство Израильское. Иешуа ни сам не называет себя Мессией, ни Левий не обольщается на этот счет (конечно, какой может быть Царь Израильский, если человек учит о том, что власть это зло, которое надо избыть?). Потому Апостолов и охватывает парализующий ужас при мысли о казни Христа ("неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?.. что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля" (Лк24, 18-21)).
Итак, Апостолы не в силах постигнуть смысл происходящей перед ними Страшной и Таинственной Жертвы и справедливо полагают, что Христос не может просто погибнуть (потому, кстати, говоря, мысль о том, чтобы таким образом избавить Учителя от мучений, для них никак не могла бы быть "простой и гениальной"). Левию же и постигать нечего: он видит "не сделавшего никому в жизни ни малейшего зла", дорогого для него человека, обреченного на мучительную смерть (хотя и не столь мучительную, как Казнь прибитого, а не привязанного ко Кресту Иисуса), и всем сердцем хочет помочь – хотя бы облегчив страдания…
Когда это не удается ему, Левий приходит в отчаяние:
" - О, я глупец! - бормотал он, раскачиваясь на камне в душевной боли и ногтями царапая смуглую грудь, - глупец, неразумная женщина, трус! Падаль я, а не человек!"
Интересно, что со своим "козьим пергаментом" Левий не расстается и сейчас:
"Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался за нож, спрятанный под таллифом на груди, то за кусок пергамента, лежащий перед ним на камне рядом с палочкой и пузырьком с тушью.
На этом пергаменте уже были набросаны записи:
"Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!"
"Солнце склоняется, а смерти нет".
Теперь Левий Матвей безнадежно записал острой палочкой так:
"Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть".
Но смерть все еще не приходит, и тогда с Левием случается то, что, увы, нередко случается с людьми в час испытаний, и от чего общение со Христом уберегло Апостолов – вера Левия дает трещину и он начинает обвинять в случившимся Бога: "он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу… и потребовал у бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы бог тотчас же послал Иешуа смерть.
Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений... Тогда Левий закричал:
Ты глух! - рычал Левий, - если б ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же.
Зажмурившись, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу..."
Поражает насколько ученик и учитель разнятся между собой… Особенно это станет заметно в следующей главе – когда Левий, как недавно Иешуа, предстанет перед Пилатом: "На балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек… Пришедший человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья…".
"- Я не хочу есть, - ответил Левий.
Зачем же лгать? - спросил тихо Пилат, - ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше."
"Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно."
"- Тебе не очень-то легко будет смотреть мне в лицо после того, как ты его убил.
Молчи, - ответил Пилат, - возьми денег.
Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:
Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит, - Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. - И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?
Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека… Я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни".
Пилат прав – Левий действительно усвоил немного…
Но поражает и другое: ведь Воланд и его свита тоже очень разные. Но, будучи различны, действуют они вполне согласованно (вспомним: "царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет" (Лк.11,17)). Кроме того их разность изображена крайне привлекательно. Даже какие-то раздражающие в первый момент черты, вскоре так скрашиваются поведением персонажа, что становятся уже забавной отличительной чертой…
С Иешуа и Левием выходит иначе: можно восхищаться беззлобным правдолюбцем философом, но тем не менее он остается жалок и бессилен. Можно восхититься верностью и смелостью Левия, его заботой о том, чтобы вернуть краденный нож, но тем не менее он останется смешон со своим явным непониманием Иешуа, со своим козьим пергаментом, который невозможно разобрать… Даже его "бунт против Бога", не смотря на весь трагизм ситуации, изображен жалким и смешным:
"Глядя на нити огня, раскраивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В раскаянии глядя в чистое небо, которое еще не пожрала туча и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Левий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями. Теперь бог не послушает его".
Но вот в конце романа мы видим душу Левия – по смыслу, душу, в отличие от мастера, удостоенную света (раз он находится при Иешуа – передает его просьбу, называет себя его учеником...): "из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый". Не правда ли – странное описание? Особенно, если вспомнить, как романтически будут описаны преобразившиеся мастер и Воланд со свитой… Особенно настораживает мрачность Левия. Дальше весь разговор построен так, что подчеркивается мудрость и величие Воланда и раздраженная ограниченность Левия. Более того, Левий и сам вынужден признать могущество Воланда, в каком-то смысле – поклониться ему:
"- Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, - в первый раз моляще обратился Левий к Воланду."
В Евангелии "возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. (Лк. 4, 5-8). У Булгакова же мечта дьявола сбывается – и Иешуа и ученик его обращаются к дьяволу с мольбой, и в мире булгаковского романа это выглядит естественно, ибо Воланду действительно дана власть…
Так что выводы из нашего исследования получаются неутешительными: главным героем романа действительно является Воланд, при этом он является более привлекательным и уж однозначно более могущественным персонажем, чем Иешуа, а его довольно многочисленная свита – несравнимо краше единственного ученика Иешуа. Более того, все это никак не получится объяснить тем, что образ Иешуа просто не до конца удался Булгакову, и даже тем, что Булгаков приблизился только к арианству? – нет, Михаил Афанасьевич достаточно знал богословие, чтобы видеть что он передал Воланду, и был достаточно опытным мастером, чтобы не видеть, кто стал главным героем его романа…
Евангелие от Михаила. (1928-1940. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова)
…И погашаем
Светильники.
В прежней бездне
Безверия
Не понимая, что именно в эти дни и часы
Совершается
Мистерия…
А. Белый. 1918
«А вам скажу, – улыбнувшись, обратился он к мастеру, – что ваш роман вам принесет еще сюрпризы».
Главный, последний, «закатный» роман Булгакова «Черный маг», «Копыто инженера», «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы», ставший в итоге «Мастером и Маргаритой», – писался тринадцать лет, ждал публикации двадцать шесть, читается уже больше тридцати.
За это время появились десятки изданий и переводов, сотни толкований и интерпретаций, тысячи книг и статей. Из них можно узнать много интересного и «интересного». Булгаков побывал борцом с тоталитаризмом и апологетом силы, апостолом гуманности и певцом дьявола, наследником великих классических традиций и самовлюбленным дюжинным фельетонистом, поклонником каббалы, масонства, гностицизма и тайным антисемитом и проч., и проч.
«Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продуманно, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования» (X.-Л. Борхес. «По поводу классиков»).
По этому критерию книга уже стала классической: сама породила традицию, разошлась на афоризмы, стала для целого поколения культовой. Но у вещей с таким предельным ценностным статусом есть одно малоприятное свойство. Сквозь груды толкований все труднее пробиться к их исходному, изначальному смыслу. Особенно это касается романа причудливо-барочного, подмигивающе-загадочного, культурно-многослойного.
«Мастер и Маргарита» – роман-лабиринт. Скорее даже – три романа, три лабиринта, временами пересекающихся, но достаточно автономных. Так что идти по этому саду расходящихся тропок можно в разных направлениях, но оказаться в результате в одной точке.
Четыре главы последней редакции (вторая, шестнадцатая, двадцать пятая и двадцать шестая) – история одних суток весеннего месяца нисана, фрагмент Страстей Господних, исполненный булгаковской рукой.
Иешуа Га-Ноцри, Понтий Пилат, Левий Матвей, Иуда. Четыре персонажа «вечной книги», включая главного, становятся героями булгаковского повествования. Эти шестьдесят пять страниц (шестая часть текста) – смысловое и философское ядро «Мастера и Маргариты» и в то же время – предмет самой острой полемики, конфликта интерпретаций.
Предельный вариант «чтения в сердцах» выглядит примерно так: «Очевидно, М. Булгаков увлечен каким-то теософическим “экуменизмом”… Не только Иисус, но и Сатана представлены в романе отнюдь не в новозаветной трактовке… Но если у нас не остается никаких сомнений в том, что М. Булгаков исповедовал “Евангелие от Воланда”, необходимо признать, что в таком случае весь роман оказывается судом над Иисусом канонических евангелий, совершаемым совместно Мастером и сатанинским воинством» (Н. Гаврюшин).
Однако и просто ортодоксальный, догматический взгляд на эти булгаковские страницы превращает их во что-то легковесно-еретическое, лишает их собственного драматизма. «Иешуа Га-Ноцри… праведный чудак, крушимый трусливой машиной власти, подводит итоги всей “ренановской” эпохи и выдает родство с длинным рядом воплощений образа в искусстве и литературе XIX века» (С. Аверинцев). «Вставная повесть о Пилате у Булгакова… представляет собой апокриф, весьма далекий от Евангелия. Главной задачей писателя было изобразить человека, “умывающего руки”, который тем самым предает себя» (А. Мень. Сын человеческий).
Справедливо, что «Евангелие от Михаила» – апокриф, не совпадающий с официальным вероучением. Но, в отличие от отца Александра, смиренно предлагавшего очерк, который «поможет читателю лучше понять Евангелие, пробудить к нему интерес», автор «Мастера и Маргариты» вовсе не ставил такой цели. Булгаков строит, конструирует художественную реальность, сознательно отталкиваясь от канонических текстов. «Евангелие от Михаила» помнит о своих «родственниках» «от Матфея» и «от Иоанна», но использует их как материал, трансформирует в соответствии с собственными задачами. Фонетические замены привычных евангельских названий и имен (Ершалаим, Иешуа) – лишь внешний знак того обновления образа, которое нужно Булгакову в древних главах.
Иисус евангельский знал, откуда он пришел, кем послан, во имя чего живет и куда уйдет. Он имел дело с толпами, пророчествовал, проповедовал, совершал чудеса и усмирял стихии. Его страх и одиночество в Гефсиманском саду были лишь эпизодом, мгновением, понятным для смертного человека, но не для богочеловека. Но и здесь, как мы узнаем от Луки, его поддерживал ангел: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43).
Иешуа моложе своего евангельского прототипа и не защищен от мира ничем. Он совершенно одинок, не знает родителей («Родные есть? – Нет никого. Я один в мире»), имеет всего одного верного ученика, боится смерти («А ты бы меня отпустил, игемон… я вижу, что меня хотят убить»), ни одним словом не намекает на покровительство высших сил, а его проповедь сводится к одной-единственной максиме: человек добр, «злых людей нет на свете».
Однако, выстраивая свою версию биографии Иешуа Га-Ноцри, Булгаков сохраняет, удерживает самое главное. Пилатовскому демагогическому вопросу «Что есть истина?» в Евангелии от Иоанна предшествует объяснение Иисуса: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18, 37).
Иешуа не просто свидетельствует. Он сам с его удивительной, внеразумной, вопреки очевидности, верой в любого человека (будь то равнодушно-злобный Марк Крысобой или «очень добрый и любознательный человек» Иуда) есть воплощенная истина. Потому-то он не подхватывает предложенный Пилатом иронический тип философствования, а отвечает просто и конкретно, обнаруживая уникальное понимание души другого человека: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти… Беда в том… что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Быть «великим врачом» – значит исцелять болезни не столько тела, сколько души.
Достоевский говорил: если ему математически докажут, что истина и Христос несовместимы, он предпочтет остаться с Христом, а не с истиной. Он же собирался воссоздать в «Идиоте» образ «положительно прекрасного человека», князя-Христа. Отзвуки этих замыслов и идей есть в «Мастере…». Иешуа «не сделал никому в жизни ни малейшего зла». Его простые истины производны от его личности.
Хотя Иешуа действует фактически лишь в одном большом эпизоде, его присутствие (или значимое отсутствие) оказывается смысловым центром всей булгаковской книги. Такой композиционный прием в более радикальном варианте был уже опробован в «Последних днях». В пьесе о Пушкине поэт ни разу не появляется на сцене. Но с его имени начинается афиша, список действующих лиц. И его присутствием, его стихами определяется все происходящее.
Переписывая на свой лад Писание и предание, корректируя его, Булгаков тем не менее сохраняет (причем во всех трех романах) его основной конструктивный принцип.
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко Мне… Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» – рассказывал евангельский Матфей о въезде в Иерусалим (Мф. 21, 1-2, 6-9).
«Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим, через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал».
Так что эти «добрые люди», включая преданного Левия Матвея (Матфея), неверно записали и «все перепутали» не только в словах, но и в фактах. «Евангелие от Михаила» отменяет предшествующие свидетельства других евангелистов, но сохраняет их исходную установку: было именно так, как рассказано.
Не было родителей, жены, осла, множества учеников, ощущения избранности, чудесных исцелений и хождения по водам. Но странная проповедь, предательство Иуды, суд Пилата, казнь, страшная гроза над Ершалаимом – были.
«Вот теперь я знаю, как это было на самом деле», – будто бы сказала машинистка, перепечатывающая современную версию истории прекрасного Иосифа – роман Т. Манна «Иосиф и его братья». Булгаков раньше Манна и более последовательно идет по тому же пути – создает, «записывает» роман-миф (Б. Гаспаров), все события которого обладают – внутри художественного целого – статусом истинности, достоверности.
Только несчастный позитивист Берлиоз пытается доказать Иванушке, что никто из богов «не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса», и отождествляет «простые выдумки» и «самый обыкновенный миф». Да невольная виновница его гибели Чума-Аннушка наблюдает чудеса в виде вылетающих в окно незнакомцев.
Точка зрения текста формулируется в первой же главе Воландом: «А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего… И доказательств никаких не требуется…»
Не надо никаких доказательств, было все, не только распятие Иешуа, но и шабаш ведьм, и большой бал сатаны в квартире № 50, и Бегемот с Коровьевым в «Грибоедове», и подписывающий бумаги костюм.
Граница между «было» и «не было», реальностью и вымыслом в художественном мире булгаковского романа отсутствует, подобно тому как она не существует в мифе, в поэмах Гомера, в сказаниях несущих благую весть евангелистов.
Булгаков не воссоздает миф (вариант Т. Манна), а создает его внутри своего романа. Однако выполнена эта булгаковская версия в совершенно необычной для канонических евангелий стилистической манере.
Э. Ауэрбах в книге «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» считал, что в основе литературы нового времени лежат два стилистических принципа, восходящих к Гомеру и Ветхому Завету: «Один – описание, придающее вещам законченность и наглядность, свет, равномерно распределяющийся на всем, связь всего без зияний и пробелов, свободное течение речи, действие, полностью происходящее на переднем плане, однозначная ясность, ограниченная в сферах исторически развивающегося и человечески проблемного. Второй – выделение одних и затемнение других частей, отрывочность, воздействие невысказанного, введение заднего плана, многозначность и необходимость истолкования, претензии на всемирно-историческое значение, разработка представления об историческом становлении и углубление проблемных аспектов». Специально о Новом Завете замечено: «Чувственно наглядное здесь – не следствие сознательного подражания действительности и потому редко достигает выражения; оно проявляется только потому, что тесно увязывается с событиями, о которых рассказывается, тогда оно раскрывается в жестах и словах внутренне затронутых людей, – но авторы нисколько не озабочены тем, чтобы придать чувственно-конкретному определенную форму».
В булгаковской истории Иешуа библейские претензии на всемирно-историческое значение, психологические многозначность и недоговоренность соединены с тщательно проработанным передним планом, законченностью и наглядностью, равномерно распределенным и ярким светом.
Пока Иешуа и Пилат ведут свой вечный спор, пока решаются судьбы мира, движется привычным путем солнце (невысокое, неуклонно подымающееся вверх, безжалостный солнцепек, раскаленный шар – всего во второй главе оно упоминается двенадцать раз), бормочет фонтанчик в саду, чертит круги под потолком ласточка, доносится издалека шум толпы. В следующих евангельских главах появляются все новые живописные детали: красная лужа разлитого вина, доживающий свои дни ручей, больное фиговое дерево, которое «пыталось жить», страшная туча с желтым брюхом.
Четкая графика евангельской истории с минимумом «чувственно наглядного» у Булгакова раскрашена и озвучена, приобрела «гомеровский» наглядный и пластический характер. Роман строится по принципу «живых картин» – путем фиксации, растягивания и тщательной пластической разработки каждого мгновения. В булгаковской интерпретации это бесконечно длинный день, поворотный день человеческой истории.
«Мастер и Маргарита» – роман не испытания идеи (как, скажем, у Достоевского), а живописания ее.
В этой, по видимости, объективной пластике незаметно формируются символические мотивы: беспощадное солнце трагедии, обманное мерцание луны, при которой совершается убийство предателя, кровавая лужа вина, багровая гуща бессмертия, страшная туча как образ апокалипсиса, вселенской катастрофы.
Смыслом объективно-живописной, остраненно-драматической картины становятся все те же вечные вопросы, но опять-таки в булгаковской художественно-еретической аранжировке.
Булгаковский Иешуа – не Сын Божий и даже не Сын Человеческий. Он – сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некие истины и, кажется, не подозревающий об их, этих истин, и о своем будущем.
Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти, потому, что люди любят деньги и за них готовы на предательство (Иуда), потому что толпа любит зрелища, даже если это – чужая смерть. Огромный, сжигаемый яростным солнцем мир равнодушен к одинокому голосу человека, нашедшего простую как дыхание, прозрачную как вода истину.
В обозримом Ершалаимском пространстве романа на проповедь Иешуа откликаются лишь двое – сборщик податей, бросивший деньги на дорогу и ставший его единственным учеником, и жестокий прокуратор, пославший его на смерть.
Левия Матвея часто представляют ограниченным фанатиком, не понимающим Иешуа, искажающим его идеи («Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил»). Почему же тогда, как становится известно в финале, он заслужил свет?
Приведенные слова Иешуа метят скорее в Матфея и других евангелистов и связаны с булгаковским представлением об истине личности, не вмещающейся в любые «изречения» и проповеди. На самом деле Левий Матвей – образ бесконечной преданности, самоотверженности, любви и веры (такой же фанатичной и безрассудной, как любовь и вера Маргариты). Бывший сборщик податей сжигает за собой мосты и безоглядно идет за учителем, записывает каждое его слово, готов любой ценой спасти Иешуа от крестных мук, собирается мстить предателю Иуде. Как Маргарита, ради любимого ставшая ведьмой, Левий Матвей из-за Иешуа не боится вступить в схватку с самим Богом: «Проклинаю тебя, Бог!.. Ты бог зла!.. Ты не всемогущий Бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!»
В первом романе Левий Матвей выделен даже композиционно: его глазами, «единственного зрителя, а не участника казни», мы видим все происходящее на Лысой Горе, роль Левия Матвея в древней фабуле в чем-то аналогична роли мастера. Он – первый свидетель, пытающийся рассказать, «как все было на самом деле». Он делает свои «логии» даже во время казни: «Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!.. Солнце склоняется, а смерти нет». Единственная его просьба при свидании с Пилатом касается куска чистого пергамента. Закономерно, что он оказывается посредником в переговорах Иешуа с Воландом о судьбе Мастера, оставаясь все тем же фанатичным учеником, самым непримиримым и враждебным к духу зла: «Я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший».
С Пилатом в роман, напротив, входит тема трусости, душевной слабости, компромисса, невольного предательства.
Зачем мастеру (и Булгакову) понадобился прокуратор? Ведь в кругу канонических образов есть персонаж, в связи с которым та же тема могла быть обозначена с не меньшим успехом, не вызывая в то же время упреков в симпатиях автора к власти и заигрывании со злом («Иешуа Га-Ноцри интересует мастера меньше, нежели Пилат, сын короля-звездочета, еще меньше интереса вызывает в Булгакове философия добра, в ней реальный автор реального романа изверился прежде всех… Иешуа, как и мастер, прежде всего спасает сильных мира сего, прежде всего – палачей». – К. Икрамов).
Апостол Петр, первый ученик, тоже трижды предает Христа, отрекаясь от него. (Кстати, чеховский рассказ «Студент», в котором история Петра непосредственно сопоставлена с современностью и возникает образ невидимой цепи времен, можно счесть структурным аналогом булгаковского романа – но в лапидарной лирической транскрипции.)
Различие между сходными поступками, однако, велико. Петр – обычный слабый человек, он испытывает давление обстоятельств, его жизни угрожает непосредственная опасность. В случае с Пилатом эти внешние причины отсутствуют или почти отсутствуют (намек на страх перед императором все-таки есть в тексте). Пилат, в отличие от Петра, может спасти Иешуа, он даже пытается это сделать, но робко, нерешительно – и в конце концов умывает руки (в романе, в отличие от Евангелия от Матфея, этот жест, впрочем, отсутствует), сдается.
Автора романа «Мастер и Маргарита» обычно сравнивают, почти отождествляют с мастером (даже – с Мастером), к чему еще придется вернуться. Но он – не только мастер. Автор всегда больше любого героя и в то же время может оказаться любым из них.
В замечательном письме П. С. Попову 14-21 апреля 1932 года (идет работа над второй редакцией – «Консультант с копытом») Булгаков признается: «В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговора о Монахе (речь идет о повести Чехова “Черный монах”, который воспринимается Булгаковым как символический вестник смерти. – И. С .), и самое солнце (и здесь, как в романе, солнце. – И. С .) светило бы по-иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете в постели, а как следует быть, за письменным столом.
Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна – плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».
Биографы ищут и находят эти роковые ошибки в булгаковской жизни. Одной из них мог быть телефонный разговор со Сталиным 18 апреля 1930 года, в котором писатель выразил желание встретиться и поговорить с вождем о важных проблемах; разговор так и не состоялся.
Интереснее, однако, другое. «Роковая ошибка», «обморок робости» – такие определения вполне можно отнести к булгаковскому Пилату. Личная тема сублимируется и воплощается во вроде бы абсолютно далеком от автора персонаже.
После выкрика на площади («Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все. Имя!»), спасающего Вар-раввана и окончательно отправляющего на казнь Иешуа, «солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист».
Это не только воющая толпа, но – голос бездны, тьмы, «другого ведомства», торжествующего в данный миг свою победу. Потом можно убить предателя (в эпизоде с Иудой реализуется скорее не евангельское «подставь другую щеку», а ветхозаветное «око за око»), как в зеркале увидеть свою жестокость в поступках подчиненного («У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите…»), спасти ученика Иешуа («Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет») – можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся.
Оправдание есть – утешения нет. И его не будет две тысячи лет.
Не торжество силы, а ее слабость, роковая необратимость каждого поступка – вот что такое булгаковский Пилат.
Искупить совершённое невозможно, его лишь можно, если удастся, забыть. Но всегда найдется кто-то с куском пергамента. Он запишет, и записанное останется. И даже если рукописи сгорят, все останется так, как было записано.
Ершалаимский роман пришит к современности тремя стежками. Начало рассказывает Берлиозу с Бездомным Воланд. Казнь грезится в сумасшедшем доме Иванушке. Две главы об убийстве Иуды и встрече Левия Матвея с Пилатом читает по чудесно восстановленной Воландом рукописи Маргарита. Но рассказчик, визионер, прекрасная и верная читательница объединены общей мотивировкой: они опираются на роман мастера, который угадал то, что было на самом деле.
Сожженный роман словно висит в воздухе, присутствует в атмосфере, проникает в сознание разных персонажей. Причем он больше того, что нам суждено прочитать (Воланд возвращает из небытия «толстую пачку рукописей»). И закончится он уже в ином пространстве-времени, прямо на наших глазах.
Роман Мастера, ершалаимская история строится, в сущности, по законам новеллы – с ограниченным числом персонажей, концентрацией места, времени, действия: встреча Пилата с Иешуа, суд – казнь Иешуа – убийство Иуды – встреча Пилата с Левием Матвеем. Романными здесь оказываются, в сущности, лишь живописность, детализация, тщательность и подробность повествования.
Московский хронотоп, тоже сконцентрированный во времени (всего четыре дня), напротив, битком набит людьми и событиями. Из 510 персонажей «Мастера и Маргариты» (по другим подсчетам – 506) в древних главах упоминается менее полусотни. Все остальные – современники Булгакова плюс Воланд со своей свитой и посетителями «великого бала».
В московском пространстве сосуществуют два романа (даже в творческой истории «Мастера…» они не синхронизированы): дьяволиада и роман о мастере, рассказ о его творчестве, трагедии, любви.
В изображении публики на сеансе в варьете и посетителей Дома Грибоедова – Варенухи, Римского, Лиходеева, Чумы-Аннушки и маленького иуды Алоизия Могарыча – Булгаков погружается в фельетонную стихию. Здесь много совпадений с его собственными ранними текстами, с современниками (Ильф и Петров, Зощенко), с сатирической линией русской классики (Гоголь, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, Чехов). Откровенный площадной комизм многих московских сцен вызвал неприятие уже у первых читателей (хотя другими был воспринят с энтузиазмом). Строгий В. Шаламов в 1966 году (видимо, прочитав лишь половину текста) увидит в «Мастере…» «среднего уровня сатирический роман гротеск с оглядкой на Ильфа и Петрова. Помесь Ренана или Штрауса с Ильфом и Петровым». Закончит дневниковую запись автор «Колымских рассказов» совсем жестко: «Булгаков никакой философ».
Взгляд – но «от обратного» – точный и небезосновательный. Булгаков не философствует. Он живописует, описывает, изображает. Чисто идеологические споры занимают в романе ничтожно малое место (по сравнению, скажем, с бесконечными философскими диспутами героев Достоевского или Т. Манна или даже оживленными перепалками персонажей идеологических повестей Чехова). Философия в романе сжимается до максимы, афоризма. Десятка полтора из них – от «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» до «Все будет правильно, на этом построен мир» – сразу же ушли в язык, стали «народной мудростью», как когда-то речения Крылова или Грибоедова.
В московской дьяволиаде еще более, чем в ершалаимских главах, проявляется булгаковское предпочтение «описаний, придающих вещам законченность и наглядность», – «воздействию невысказанного, многозначности и необходимости истолкования». Не только главы «Было дело в Грибоедове», «Черная магия и ее разоблачение», «Великий бал у сатаны» но и большинство других строятся по принципу «колеса обозрения»: по страницам романа проносится какой-то шутовской хоровод, в котором каждый персонаж дан по-театральному броско, резко, однозначно и смачно, иногда с помощью одного эпитета или просто фамилии. «Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердаки и маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках».
Здесь (на что, кажется, не обратил внимания Шаламов) не только меняется эмоциональная доминанта, но и строится иной, чем в ершалаимских главах, образ рассказчика. На смену сдержанному хроникеру, летописцу, объективному живописцу (в такой стилистике выдержан роман мастера) приходит суетливый репортер, собиратель слухов, карикатурист, напоминающий повествователя в «Бесах» или простодушного рассказчика Зощенко (кстати, можно увидеть и более конкретные связи между литературным балом у Достоевского и литературными главами «Мастера…»; есть в «Бесах» и городской пожар).
«Дом назывался “Домом Грибоедова” на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было… Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из “Горя от ума” этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!»
Между ершалаимской мистерией и московской дьяволиадой обнаруживается множество перекличек: мотивных, предметных, словесных (от палящего солнца и апокалипсической грозы до реплики: «О боги, боги мои, яду мне, яду!..»). Ершалаим и Москва не только зарифмованы, но и противопоставлены в структуре «большого» романа. В древнем сюжете нет Воланда, хотя он, смущая души Берлиоза и Бездомного, говорит, что присутствовал в Ершалаиме «инкогнито» (как гоголевский ревизор из Петербурга!). Дьяволу нет места на страницах романа Мастера, там ничего еще не решено.
В Москве же правит бал «другое ведомство». Здесь часто поминают черта (Булгаков даже с некоторой назойливостью реализует словесное клише: «черт возьми» – и черт берет), но Иисуса считают несуществующей галлюцинацией: «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Естественно, на освободившемся месте появляются не только мелкие бесы, но и сам сатана.
Образ Воланда у Булгакова, вероятно, еще больше, чем Иешуа, далек от канона и культурно-исторической традиции (Гете, Гуно и пр.). «Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает… Работа его разрушительна – но только среди совершившегося уже распада» (П. Палиевский).
Действительно, булгаковский сатана не столько творит зло, сколько обнаруживает его. Как рентгеновский аппарат, он читает человеческие мысли и проявляет таящиеся в душах темные пятна распада. Несчастного Берлиоза, кроме случайности, губят гордыня и тотальное, циничное безверие («Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу»). Лишь когда все уже будет поздно, на мертвом лице Маргарита вдруг увидит «живые, полные мысли и страдания глаза». Единственным убитым, оставленным воинством Воланда в Москве, окажется барон Майгель, современный Иуда. Все остальные отделываются сильным испугом и неприятными воспоминаниями. А кое-кто даже становится лучше, как Варенуха, приобретший «всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость» («Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!»), или председатель акустической комиссии, оказавшийся замечательным заведующим грибнозаготовительного пункта.
В «Мастере и Маргарите» Воланд, оставаясь оппонентом Иешуа, в сущности, играет роль чудесного помощника из волшебной сказки или благородного мстителя из народной легенды – «бога из машины», спасающего героев в безнадежной ситуации. «Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что, если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви!» После этого признания Азазелло и напоминания о стыде Маргарита не губит душу, а спасает любимого.
Позвольте, а как же колдовская черная месса, шабаш ведьм, дьявольские игрища…
Булгакова одинаково нелепо представлять как поклонником «сатанинской литургии» и масонских обрядов, так и борцом с колдовством и ересями, вроде авторов «Молота ведьм» (книга, которую писатель, вероятно, знал). С таким же успехом его можно объявить огнепоклонником (пожары занимают много места в романе) или преследователем котов (приводя как аргумент страницы эпилога).
И здесь Булгаков прежде всего писатель, а не тайный сектант или проповедник. Инфернальный слой романа привлекает его как материал, из которого извлекаются сюжетные и изобразительно-живописные возможности. Если искать здесь какие-то аналогии, то они – в гоголевском «Вие» и традициях романтической чертовщины и дьяволиады.
Я. Шпренгер и Г. Инститорис, авторы «Молота ведьм», и другие искоренявшие ереси серьезные люди утверждали, что на своих шабашах ведьмы отрекались от Бога и святых, наступали на крест, пожирали жаб, печенки и сердца некрещеных детей, поклонялись предъявляемой дьяволом огромной красной моркови, устраивали ужасные оргии. Булгаковский шабаш ограничивается захватывающим чувством полета, катанием Наташи на борове, купанием в реке, танцем вокруг костра, комическим выяснением отношений с напившимся коньяка козлоногим толстяком.
На какие-либо кощунства здесь нет и намека. Все разрушительные инстинкты Маргариты ограничиваются погромом в квартире ненавистного критика Латунского. Успокаивает ее как раз голос испуганного ребенка. Воспаленные жуткие бредни инквизиторских трактатов Булгаков заменяет легкой иронией и прозрачной лирикой, напоминающей атмосферу андерсеновских сказок или ранних гоголевских повестей. «Под ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра.
Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей был оказан самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями…»
Подлинная дьяволиада развертывается в Москве рядом с Воландом. В каком-то странном театральном зале-тюрьме из граждан трясут валюту («Сон Никанора Ивановича»), какие-то люди без имен и лиц следят, преследуют, стреляют, обыскивают квартиру, отвозят в клинику Стравинского. В московском воздухе рассеян запах неясной угрозы.
Хотя действие московского романа часто пытаются привязать к определенному году и даже точным дням (1-5 мая 1929 года, по версии Б. Соколова; 15-18 июня 1936 года, по версии А. Баркова), доминирующим в нем, кажется, является противоположный принцип: конкретность места при размытости художественного времени. В романе-мифе Булгаков дистанцируется от современности: срезает социальную вертикаль (тут нет начальника выше председателя Массолита и директора театра; место Пилата – свободно), избегает обыгрывания лозунгов, упоминания политических кампаний, всяких примет идеологизирования жизни (любимый прием Зощенко, Ильфа и других сатириков двадцатых-тридцатых).
Между тем книга дописывается в эпоху больших процессов, торжества новой инквизиции, грандиозной, поражающей воображение охоты за ведьмами, когда люди исчезали не на время, как Степа Лиходеев, а навсегда. В дневнике Е. С. Булгаковой записи о работе над «Мастером…» и о происходящем в «большом» мире идут подряд и вперемежку: «9 марта Роман. М. А. читал мне сцену – буфетчик у Воланда. 10 марта . Ну что за чудовище – Ягода. Но одно трудно понять – как мог Горький, такой психолог, не чувствовать – кем он окружен. Ягода, Крючков! Я помню, как М. А. раз приехал из горьковского дома… и на мои вопросы: ну как там? что там? – отвечал: там за каждой дверью вот такое ухо! – и показывал ухо с пол-аршина».
Попытка описать такое не только была смертельна биографически, но и обрушила бы сложившуюся художественную структуру. Такая современность входит в булгаковскую книгу в гомеопатических дозах и карнавально трансформируется («Сдавайте валюту», – задушевно уговаривает артист; ужас Варенухи связан с появлением ведьмы; исчезнувший Лиходеев обнаруживается в Ялте). Однако точечные детали (Канта – в Соловки; здорово, вредитель; не спал целый этаж в одном из московских учреждений) дают, конечно, не изображение, а ощущение времени. Роман-миф становится для Булгакова убежищем, единственным способом избежать принципиального выяснения отношений с современностью, попыткой подняться над ней, обойти страшную историю на повороте.
Спасения от мира мелких бесов, где торжествует бездарность, власть принадлежит безликой силе, самым спокойным местом оказывается сумасшедший дом, можно искать только у Воланда. Оказывается, зло небесное, метафизическое – это еще не самое страшное. Воланд если не служит, то слушается Иешуа, но можно ли представить, чтобы мастеру помогал Могарыч или Никанор Иванович бросил деньги на дорогу, как это сделал Левий Матвей?
Философский смысл московской дьяволиады обнаруживается в сцене в варьете. Перемежая свой монолог трюками подручных и совсем не общаясь с залом, Воланд сам ставит вопрос и сам же отвечает на него.
«Скажи мне, любезный Фагот… как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?…
– Точно так, мессир, – негромко ответил Фагот-Коровьев.
– Ты прав. Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти… как их… трамваи, автомобили…
– Автобусы, – почтительно подсказал Фагот…
– Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая…
– Аппаратура! – подсказал клетчатый.
– Совершенно верно, благодарю, – медленно говорил маг тяжелым басом, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?
– Да, это важнейший вопрос, сударь».
И после фокуса с хлынувшим на зал денежным дождем Воланд подводит итог: «Ну что же… они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»
Это реплика в споре о новом человеке: люди не изменились.
Но это и трезвый взгляд на природу человека вообще: милосердие иногда стучится в сердца, но любовь к деньгам, квартирный вопрос или что-то еще все портит.
В толпе люди оказываются хуже, чем поодиночке.
Образ «толпы», а не отдельные персонажи – вот что, пожалуй, связывает московский и ершалаимский сюжеты.
В те же годы, когда М. Бахтин писал про «смеющийся народный хор», противостоящий официальной культуре (а к «Мастеру…» будет применяться его термин «мениппея»), Булгаков относится к этому «хору» без пиетета – трезво и иронично.
На фоне воющей толпы, «человеческого моря» Пилат произносит приговор, толпа наблюдает за казнью, толпа с восторгом ловит деньги в театре и наблюдает за унижением Семплеярова и других, толпы писателей танцуют, выстраиваются в очереди, топчут вышедшего из ряда.
У Иешуа же, по Булгакову, не случайно только один ученик. Наедине с собой Рюхин вдруг трезво осознает свое литературное ничтожество. Бездомный отказывается сочинять стихи, а мастер начинает писать свой злосчастный роман.
Соединительным звеном между «той» и «этой» толпой оказываются гости большого бала у сатаны. «По лестнице снизу вверх подымался поток… Снизу текла река. Конца этой реке не было видно… Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей… На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движений, вертясь в одном направлении, стеною шло, угрожая все смести на своем пути».
Зло коллективно, массовидно. Чтобы сделать добро, нужно выхватить из толпы лицо, разглядеть за преступлением человека. Так получается у Маргариты с Фридой. Она узнает имя («Фрида, Фрида, Фрида! Меня зовут Фрида, о королева!») – и уже не может ее позабыть.
В сцене спасения несчастной камеристки (здесь явное сходство с последующим спасением Пилата – Фриде тоже перестают напоминать о ее преступлении) важна одна классическая ассоциация. Рассказывая о трагедии, Бегемот утверждает, что соблазнивший Фриду хозяин кафе невиновен «с юридической точки». Услышав же просьбу Маргариты, Воланд предлагает заткнуть все щели спальни, чтобы в них не пролезло милосердие (вспомним варьете: «милосердие иногда стучится в их сердца»).
Коллизия формального закона, «юридической точки» и душевного порыва – одна из «русских проблем», восходящая к «Капитанской дочке». «Милости, а не правосудия» просит у царицы земной Маша Миронова. «Металлический человек», которого видит Рюхин на московском рассвете, присутствует в романе и таким образом.
Принимая участие в московской дьяволиаде, Маргарита в то же время главная героиня третьей сюжетной линии романа. Возникшая позже других (текстологи датируют ее появление 1930-1932 годом), история безымянного писателя и его любовницы стала названием всей книги.
«Мастер и Маргарита» – заглавие типологическое, знаковое. «Дафнис и Хлоя», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта» – истории о любви, верности и смерти. Идиллия и трагедия в разных сочетаниях.
Булгаковский третий роман, в общем, о том же, но он осложнен современным антуражем и темой творчества. Героев соединяет не просто внезапное и вечное чувство («Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»), но – книга, дело мастера, которое Маргарита считает своим («Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу»).
Книга мастера не просто полемически противопоставлена современной тематике («– О чем роман? – Роман о Понтии Пилате… – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?»), но позволяет Булгакову раскрыть собственные хождения по мукам, связанные с «Белой гвардией» и постановкой драм.
Автобиографические ассоциации запрограммированы и неизбежны для этого персонажа, точно так же как привычны сопоставления Маргариты с Е. С. Булгаковой. Результат оказывается парадоксальным: мастер – самый функциональный и непроявленный из всех центральных персонажей книги. Его история строится не столько на показе, сколько на рассказе. Стилистической доминантой третьего романа, оказываются не эпические спокойствие и живописность и не сатирическое буйство, а высокая патетика и лиризм. «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»
Однако именно здесь, в третьем романе, лиризм иногда сводится к сентиментальным клише («Ах, ах!.. Ах, это был золотой век!.. Ах, ах, ах!.. Ах, какая у меня была обстановка!» – на трех соседних страницах тринадцатой главы «Явление героя») или просто возникает смысловая невнятица («широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела », «как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль»).
Парадокс автобиографизма (или автопсихологизма) хорошо объяснил М. Бахтин: «Первой задачей художника, работающего над автопортретом, и является очищение экспрессии отраженного лица, а это достигается только тем путем, что художник занимает твердую позицию вне себя, находит авторитетного и принципиального автора, это автор-художник как таковой, побеждающий художника-человека. Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не обымает собою полного человека всего до конца… Гораздо труднее дать цельный образ собственной наружности в автобиографическом герое словесного произведения, где она, приведенная в разностороннее фабульное движение, должна покрывать всего человека. Мне не известны законченные попытки этого рода в значительном художественном произведении…»
Булгаковская «призрачность» в мастере, впрочем, скорее остаточна. Он борется с собственной биографией, пытается развести автора-художника и автора-человека как портретно, так и тематически.
Портретно герой, что не раз отмечено, напоминает Гоголя (острый нос, свешивающийся на лоб клок волос). Напоминает о Гоголе и отчаянный жест (сожжение рукописи), повторенный Булгаковым в жизни.
Имя «мастер», утверждает Л. Яновская, появилось у героя лишь в 1934 году, до этого в планах романа он назывался Фаустом, в тексте – поэтом. В таком случае впервые это имя Булгаков применяет к господину де Мольеру. «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер!» – обращается повествователь к герою в «Прологе». И здесь же появляется стилизованный портрет самого повествователя – в сущности, тоже «романтического мастера»: «И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мною горят восковые свечи, и мозг мой воспален».
Мастер-персонаж – автор единственной книги, утративший после всех испытаний способность творить: «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет… меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал… Он мне ненавистен, этот роман… я слишком много испытал из-за него».
«Но ведь надо же что-нибудь описывать? – говорил Воланд, – если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия.
Мастер улыбнулся.
– Этого Лапшённикова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно».
Так что не Пилат, не мастер с любимой, тем более не Бездомный (были и такие предположения) оказывается в центре «большого» романа, но – Автор, все время находящийся за кадром, однако связывающий, сшивающий разные планы книги, создающий общий план лабиринта, перевоплощающийся то в строгого хроникера-евангелиста, то в разбитного фельетониста, то в патетического рассказчика, то в проникновенного лирика.
По богатству повествовательных интонаций, а не только в структурном отношении, «Мастеру…» трудно что-либо противопоставить в литературе 1920-1930-х годов. Но зато роману легко находятся аналогии в XIX веке – у любимых Гоголя и Пушкина. Предшественниками булгаковского Автора оказываются бесплотные, но объединяющие все содержательные аспекты текстов повествователи «Евгения Онегина» и «Мертвых душ». Знаки, метки этой традиции не раз встречаются в романе.
В других случаях продолжение оборачивается началом. Пушкин, Гоголь, Достоевский, помимо всего прочего, создали «Петербург в слове», «город пышный, город бедный», обустроили, заселили его и передали XX веку. Москве в этом смысле не повезло. У первой столицы были свои певцы, но «московский текст» , в отличие от «петербургского» в XIX веке, в общем, не сложился.
В «Мастере и Маргарите» Булгаков создает его практически в одиночку. И теперь так же, как в Петербурге, идут по следу булгаковских героев краеведы (вот «Дом Грибоедова», вон там мог быть подвальчик мастера, а это та самая скамейка на Патриарших), исписывают стены подъезда, ведущего к квартире пятьдесят, благодарные читатели, у Булгакова обнаруживаются свои предшественники и последователи. Миф сложился, текст продолжается.
Однако развязывает узлы, разрешает судьбы героев, ставит финальные точки невидимый, но хорошо слышимый Автор уже не в Москве. После полета гаснет на глазах мастера один город, в котором казнили его героя, уходит в землю, растворяется в тумане другой, недавно покинутый, «с монастырскими пряничными башнями» – и возникает каменистая площадка среди гор, прокуратор с верной собакой, не высохшая за две тысячи лет кровавая лужа.
Все фабульные узлы развязываются лишь при свете луны, в «разоблачающей обманы» ночи, по ту сторону земной жизни – в вечности.
Роман мастера кончается словами: «…пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Этими же словами Автор закончит свой «большой» роман. Но роман о Пилате завершится по-иному: «Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: – Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!
Мастер как будто ждал этого уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:
– Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги автораМаргарита Наваррская Маргарита Наваррская (1492–1549) – королева Наварры, французская писательница. Самым невежественным оказывается тот, кто считает, что знает все. Как неразумен человек, когда от добра, которое он имеет, он еще ищет другого. Не довольствуясь тем, что
Из книги автораГлава 2. Криптография романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова В многодетной семье Булгаковых сын Михаил был первенцем и сочинять стал, по собственному его свидетельству, в юном возрасте. Это были «обличительные фельетоны» на манер сказок Салтыкова-Щедрина, из-за
Из книги автораБракосочетание Михаила Царю исполнилось 29 лет, когда мать выбрала ему новую невесту. Это была княжна Мария Владимировна Долгорукова, дочь князя Владимира Тимофеевича. Летопись говорит, что царь вступил в этот брак только по воле матери, но вопреки своему желанию. В июне
Из книги автора4. Хронология в романе «Мастер и Маргарита» Весна стала для мастера временем перемен. Выигрыш, изменивший его жизнь, пришелся на весну: из окошка снятого у застройщика подвальчика он наблюдает попеременно «сирень, липу и клен» (с. 554), символически знаменующие позднюю
Из книги автора11. Маргарита и дьявол В переводе с греческого имя возлюбленной мастера означает «жемчужина». Жемчуг скрыт в раковине, раковина – в море. Так и суть Маргариты таинственно упрятана от окружающих за ее внешним благополучием. Кроме мужа и домработницы Наташи, в ее жизни,
Из книги автора«Маргарита» «Маргарита» – один из самых популярных коктейлей в мире, и славой своей он во многом обязан текиле. «Маргарита» смешивается из текилы, ликера «Куантро», сока лайма, соли и льда.Неизвестно, кто и когда впервые приготовил маргариту. Почти каждый мексиканский
Из книги автораКарло Лидзани. Евангелие от «Идиота» Дорогой Феллини, хотелось бы начать весьма издалека, чтобы придать более конкретный характер дискуссии о твоем последнем фильме и рассмотреть современный этап развития итальянского кино.Возможно, в настоящее время в кино (хотя и в
Из книги автораТУМПОВСКАЯ Маргарита Марьяновна 15(27).12.1891 – 6.7.1942Поэтесса, переводчица. Публикации в журналах «Аполлон», «Дракон». Переводы произведений Шекспира («Сон в летнюю ночь»), Расина («Ифигения в Авлиде»), Мольера («Ученые женщины»), Расина («Сутяги») и др. Адресат лирики
Потрясший всех при первой публикации сценами сталинской Москвы и портретами людей той жестокой эпохи, роман "Мастер и Маргарита" ныне все чаще воспринимается и читается как новое Евангелие. Споры о книге Булгакова становятся религиозными диспутами. В этом есть своя немалая правда, хотя, понятно, и не вся.
Те, кто читал роман, помнят, что критик РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей) Ариман-Авербах в статье о романе Мастера грозно предупреждал всех, что автор "сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа". Попытка, как известно, удалась и увенчалась мировым успехом, а автор доносительной статьи бесследно сгинул в лагерях. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, человек умный, просвещенный и искренне верующий, после выхода булгаковского романа написал: "Впервые в условиях Советского Союза русская литература серьезно заговорила о Христе как о Реальности, стоящей в глубинах мира". Этот разговор продолжается и сегодня.
Роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" написан во-след Священному Писанию, следует каноническим Евангелиям, видит в них свои основные источники. Более того, новозаветные сцены романа соединяются вокруг Иешуа в новое Евангелие. И важно понять, кто же его автор.
Вопреки многим утверждениям и версиям это не могучий гений зла Воланд, он всего лишь важный персонаж этой книги в книге. Дьявол, что по-древнегречески значит "клеветник" и "обольститель", может написать только кощунственное и клеветническое Евангелие. Сам тон Воланда, рассказывающего в ранних редакциях романа о казни, ернический, коровьевский: "Тут Иешуа опечалился. Все-таки помирать на кресте, даже и парадно, никому не хочется". От этого тона надо было избавиться, ибо он мельчил и снижал главную идею, к которой автор шел через все редакции и варианты, отсекая лишнее.
А главная мысль булгаковского романа не нова, обозначена еще Достоевским: при полном реализме найти в человеке человека. И поскольку лик человеческий в этом неидеальном мире трагически искажен, помочь ему прозреть и возродиться. За это и борются вечно Бог и Дьявол, а поле их битвы - сердца людей (мысль того же Достоевского). Затем и нужен роману Иешуа. Идея эта, как и образ Иешуа, тяготела к возвышению, вере и надежде. Ведь само слово "Евангелие" означает "добрая весть". От бесчеловечного князя Тьмы Воланда такая весть исходить не может.
Булгаков не знал, что существует пятое Евангелие от Иуды, оно не так давно найдено в Египте и теперь исследуется учеными и готовится к публикации. Там Иуда становится философом предательства, утверждает, что акт выдачи Христа римским воинам был внушен ему "высшей божественной силой". Этот великий вечный грех апостол взял на свою душу ради великой цели. Без страданий Христа мир было невозможно спасти, утверждал ученик-предатель.
Этой богословской, философической апологии предательства у Булгакова, конечно же, нет. Но молодой чернобородый красавец Иуда, его безмерное самолюбие, не меньшая любовь к деньгам и удовольствиям жизни, его темный, завистливый взгляд на Иисуса Христа в романе есть. Художественная догадка русского писателя заполняет пустоту евангельского мифологического сюжета, отчасти творчески реконструируя неизвестную ему книгу-апокриф апостола-предателя.
Булгаков-романист ощущал необходимость Евангелия от Иуды, создав свое краткое емкое жизнеописание предателя-ученика. Важна сама четко обозначенная в романе связь корыстолюбивого апостола с мрачным мстительным Каифой и таинственным всесильным Синедрионом (кто уничтожил в булгаковской рукописи важнейшую сцену заседания этого судилища, решившего судьбу Иешуа?), получение им при дворе первосвященника иудеев "проклятых денег" - тридцати сребреников за работу тайного агента. Но мы не поймем этот ключевой образ булгаковского романа, если будем смотреть на него глазами читателя канонического Нового Завета. И не только в апокрифах дело.
Ведь большевики Иуду оправдали и признали своим героем, памятник апостолу-предателю с грозящим небу кулаком был воздвигнут в 1918 году в тихом православном городке Свияжске. А главный краснобай партии Троцкий на открытии богоборческого памятника назвал Иуду "первым в истории бунтарем", "революционным протестантом". Об этом писали советские газеты, Булгаков это знал.
Известно ему было и другое. Предание об Иуде волновало и интересовало и вождя-тирана Сталина, в юности слушателя Тифлисской духовной семинарии. В разговоре с немецким писателем Лионом Фейхтвангером, автором известной Булгакову апологетической книги "Москва-1937", о процессе над Карлом Радеком он вдруг вспомнил об апостоле-предателе, невольно и кощунственно отождествив себя с Иисусом. "Вы, евреи, - обратился он ко мне, - создали бессмертную легенду - легенду об Иуде". Какая мысль реального политика: Иуда из Кириафа бессмертен! Подобно Понтию Пилату Сталин боялся своих "верных" сподвижников, в каждом видел своего будущего Иуду. Разве все эти любопытные обстоятельства не заставляют нас иначе взглянуть на булгаковского Иуду из Кириафа?
Булгаков создает шестое Евангелие - гениальную творческую догадку земного человека об Иисусе Христе как о личности - и делает это в полном соответствии с шестым доказательством Канта о существовании Бога, где о Творце говорится как об установившем высший нравственный порядок ("В области разума никакого доказательства существования Бога быть не может". "Мастер и Маргарита". - "НГР"). В этом портрете богочеловека и эпохи много точно найденных и отобранных исторических деталей. Евангелие перерастает в роман, но не уходит из него, это один из его художественных уровней, объединяющий эпохи и людей.
В жестокий век автор "Мастера и Маргариты" напомнил всем, что христианство - не государственная идеология и не эзотерическое учение, это человечная, гуманная мировая религия, видящая все зло мира и все же верящая в добрых людей. На реальную жизнь и неидеальных людей нисходит свет Священного Писания. Добрый Бог помогает слабому человеку установить необходимую гармонию между высшей нравственностью и личным счастьем и вносит в беспорядочную, бренную земную жизнь высокое понятие нравственного закона и возмездия.
Он отрицает архаичные законы жестоких варварских верований, угрюмую формальную обрядность, предательство Иуды из Кириафа, унижающее людей фарисейство спесивых и бесчеловечных служителей Храма, которых даже циничный римлянин-язычник Пилат в одной из редакций романа назвал "темными изуверами".
Шестое Евангелие от Михаила Булгакова человечно и обращено к людям, оно взывает к терпимости, единению и взаимопониманию, отделяя Свет от Тьмы и добро от зла. Ибо каждому будет дано по его вере.